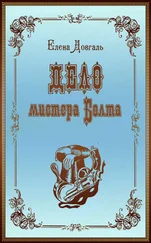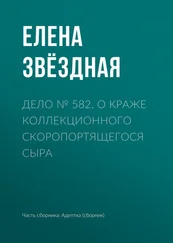Я-то тетку наизусть выучил и ожидал сложностей. Они и начались. «Да куда мне, да помешаю, да я уж здесь», – и глаза утирает. «Вот, говорит, ты и достал луну с неба, а мне больше ничего не надо». Это же от души, и вправду помешать боялась, я и растерялся.
А она только улыбнулась: «Сама уговорю». И уговорила.
Не простая, надо сказать, задача: вытащить из тетки, чего она хочет для себя. А она приручила тетку играючи. Слышу, советуются. Тетка признается, что хотела бы остаться с малышами, пока что, но одной тяжеловато стало, хорошо бы помощницу. Но не получается. Мамочки платят сколько могут, по чуть-чуть, а с помощницей как же? Она вдруг и говорит: «Это я виновата, надо было раньше сообразить». И взялась добиваться от фабричного начальства, чтобы оно помогало нянькам, которые не только работницам нужны, но и фабрикам. Она же всего добивалась, за что бралась.
Оказалось, венчаться она не намерена. Я знал, что они с доктором атеисты, и сам был не больно-то верующий, но тут как-то не задумывался про убеждения: если такой порядок… ну, считал, и мы общим порядком. А она так не считала. Я убеждения уважал, но испугался: «А если нас разлучат по приговору?» Мы сидели все вчетвером и обсуждали. Доктор за столом, тетка в уголке в кресле, все пыталась первое время в уголок забиться, а мы рядышком на черном казенном диване, она мне голову на плечо положила и смеется: «Пусть попробуют». А доктор говорит: «Конституция провозглашает свободу совести. Обязательность церковного брака входит в противоречие с конституцией. Подадим встречный иск и выиграем процесс. И непременно еще один – против поражения в правах внебрачных детей. У нас не диктатура, а свободная республика».
Я удивился, что свою жизнь можно, оказывается, соотносить с конституцией и настаивать на личных убеждениях даже против государства. Сам-то я, если выговаривать словами, от государства всегда уклонялся, а самое последнее убеждение, за которое держался бы в крайности, – это чтобы гадостей не делать. А все остальное, думал, – ладно уж.
У меня что-то такое в уме промелькнуло, а сказалось неожиданно совсем другое: «Но ведь с твоим первым мужем ты же…» Она смотрит на меня удивленно: «Конечно, нет, говорит, у нас был такой же свободный союз, как с тобой». Свободный союз. Чувствую, обиделась. «Тем более при диктатуре, когда приходилось скрывать все, что только можно было скрыть» Меня прямо горе охватило. Ведь получилось, будто я ей не доверяю. Она так головой встряхнула, словно отогнала какие-то мысли, и опять улыбнулась: «Это мы еще плохо друг друга знаем. Ничего, познакомимся. Подружимся!»
Потом, вспоминая эти дни, пересматривая, увидел, как ласково и настойчиво она со мной дружилась…
Вместе ходили по городу. Она говорила, что вдвоем стало лучше видно. И порассказать могли: она по зодчеству, я по строительству. Или вот еще – гитара. «И меня, говорит, научи». А я как-то само собой умел и не помнил, как выучился. «Вы покажите, просит, я тоже само собой разберусь». Ей же все давалось! Заиграла как по волшебству, еще и переложила для гитары свои любимые песни.
О ее первом муже я все правильно понимал. Не сомневался, что достойнейший был человек. Уважать его память – так всей душой и с готовностью. Она иногда рассказывала чуть-чуть. Но я видел, что тут больное место, страшно вспоминать. Понимал, каково это – найти любимого человека в яме с расстрелянными. Но почувствовать не позволял себе. Чтобы почувствовать, мне надо было бы ее представить в этой яме. Это не мог. Это уж слишком.
Она была такая светящаяся, серебряная, от природы задуманная вся целиком из чистого вещества радости. А тут такое, что не забудешь и не примиришься.
Работы ее мужа почти все погибли. Когда его забирали, то разгромили мастерскую. Был приказ нагонять страху. Осталась только одна картина и папка с рисунками, которых в мастерской на ту минуту не оказалось. Эту папку мне доктор показывал. Рисунки – жуткие сказки, ночной кошмар. Река, запруженная зелеными трупами. Пиршество людоедов, свежующих иссохшего человека. Сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными. Огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети. Я вполне понимал, о чем это. О страхе, арестах, о терроре, о нашей крепости. Немножко» по-детски… Да ведь ему и было двадцать лет.
Но вздрогнул от последнего рисунка – ее портрет. Акварельный. Измятый, надорванный. И отпечаток сапога.
Мы были вдвоем. Солнце в комнате. Закат. Она подошла сзади, обняла меня и смотрит на рисунок из-за плеча. И говорит: «Что ты видишь?» – «Тебя», – отвечаю, – «Ты думаешь, это я?» – «А кто же? Я тебя узнаю. Разве не ты?» – «Написано с меня, но не знаю, кто это. Расскажи». Странно, сам спросил и сам стал рассказывать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу