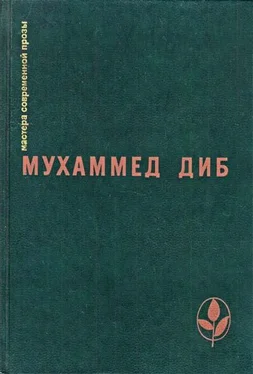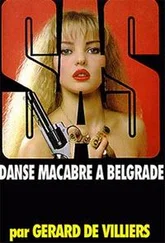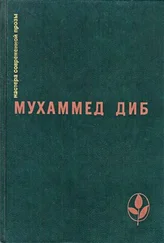Он размышляет. Это хорошо. Поразмысли, друг. А теперь?
— Ничего, — говоришь ты. — Ничего.
Я отвечаю:
— Да пребудет с тобою мир.
Ничего. Вот что меня радует. Когда ответ сводится к слову «ничего», есть от чего прийти в восторг. И я довольствуюсь этим, я ничего не добавляю. Теперь слово за расширенным в этих горах зрачком дня. За ветром и светом, которые прочесывают их безлюдные просторы, за вечером, который никак не наступит.
Лабан говорит:
Люди, которые стараются быть тенью самих себя, — и это совсем другое, нежели извечная привычка к горю; которые словно бы воюют с невидимым врагом, таятся за своими словами, взглядами, жестами и пробиваться к которым было бы напрасной тратой сил. Слова, жесты, взгляды фальшивы, эти люди не говорят, они скрываются под маской другого лица. Так и ты, Тижани, Выжженная степь с кучкой глинобитных лачуг. Но и молчание не приносит тебе покоя. И ты это знаешь; скулы у тебя туго обтянуты кожей, но ты далеко не хил; просто иссушен солнцем, истрепан, но стоек. Это ты тоже знаешь.
Города уже полны подобными тебе, и это ты с каждым из этих людей отвергаешь их с презрением. Я видел тебя. У тебя больше терпения, чем у самого Господа, и от этого опрометчиво светел твой взгляд, в котором уже так мало осталось человеческого.
Хватит.
Теперь я сижу на этом уступе скалы и смотрю. Жара налепила мне на лицо раскаленную маску. Это из-за нее дрожат в зыбком мареве между мной и тобой эти земли, эти беспорядочно вздыбленные мертвые серые горы, это полчище призраков, громоздящихся до самого горизонта.
Но что-то в ней меняется. На наших с тобою глазах режущий свет притупляется, обретает мягкость. Небо становится чище. Это словно взгляд, проникающий в истерзанную кипением крови плоть. Моя душа отбивается от него, багровая и склизкая от беззвучных воплей, и из этих корней рождается… Где тот захватчик, тот незнакомец, что сжимает ее в кулаке? Почему ты не скажешь мне его имя, Тижани?
Но нет, ты молчишь. Другие уходят, приходят. Ты смотришь на них. У твоего хозяина лицо сияет. Само унижение, которому он тебя подвергает, само твое отчаяние сверкают, должно быть, подобно всему этому невероятному окружению, подобно всем этим укоренившимся на своих местах, одичавшим от солнца скалам, домам, людям и животным.
И тут она подходит ко мне:
— Что с тобой? Отчего ты сидишь один?
Ты слышишь? Она говорит мне:
— Отчего ты сидишь вдалеке от остальных?
Ты знаешь, что с этим она обращается ко мне. Почему же ты остаешься глух и нем?
Она склоняется ко мне. В стремлении заговорить она помогает себе взглядом, который никак не выйдет за пределы ее глаз. Она ошиблась адресом, но не замечает этого. Я говорю:
— Решил немного отдохнуть.
Она, похоже, рада тому, что я обладаю даром речи. Я чуть было не добавил «мадам», но вовремя спохватился, достаточно быстро сообразив, сколь нелепо будет назвать ее так. Достаточно быстро для того, чтобы подумать, а не назвать ли ее «мать». Но этого я тоже не сделал. Не смог.
Я вижу этих людей, жестких, как мертвая деревяшка, как затвердевшая глина. Так и напрашивается мысль, что в них кто-то закупорил источник жизни. А если они не рассыпались в прах, лишенные воды, хлеба, любви, то лишь благодаря тому, что Аллах велик. Но это не помешало им окаменеть настолько, что легкие их должны отвергать и ту малую толику воздуха, которая им необходима. Они возникли здесь задолго до того, как появились города и правительства, законы и всяческие машины.
Тут я смеюсь. Я тоже смеюсь, заполняю раскатами своего смеха огромное пустое пространство. Смеюсь от души и говорю: да грядет зло, которое очистит мир! Да заполонит оно все вокруг!
Поговори с ними, скажи им это, Тижани. Скажи это узловатым корням их рук, спутанному чертополоху их бород, пробейся сквозь их твердокаменное безмолвие.
Она уже не глядит на меня. Думаю, что «мать» подходит ей не более, чем «мадам». Она возвышается надо мною в одеждах, за долгие годы носки приобретших однородный серый цвет и теперь сливающихся с землей, по которой она ступает.
Она кладет мне на голову руку со спаянными в единое целое пальцами.
— Вставай.
Может быть, она и не произнесла этого. Но в таком случае подумала, а если не подумала, то я сделал это за нее.
Передо мной — Хаким Маджар. Проходит мимо, не замечая меня, не подав знака. За ним поспешает мосье Эмар. Он догоняет его. Кажется, будто он говорит ему то единственное, что еще можно сказать. Маджар продолжает идти. На лице у него улыбка человека, который не понимает, зачем был задан вопрос, когда ответ на него очевиден. Прости. А я-то почему сказал «прости»?
Читать дальше