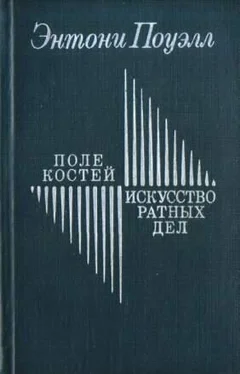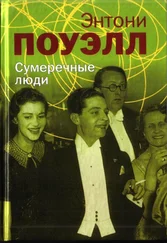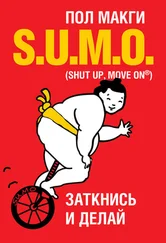Гуоткина этот сказ, должно быть, удовлетворил.
— Ротную ведомость кончили? — спросил он.
— Нет еще, сэр.
— К шестнадцати ноль-ноль должна быть подана мне, старшина.
— Подадим, сэр.
— Мистер Кедуорд.
— Сэр?
— У вас кокарда не вровень с верхним швом.
— Вернусь к себе днем — подровняю, сэр.
Гуоткин повернулся ко мне.
— Офицеры нашего батальона звездочки носят бронзовые, мистер Дженкинс.
— Начальник хозчасти сказал мне вчера, что к вечеру сегодня достанет нужные звездочки.
— Не забудьте взять их, мистер Дженкинс. Офицеры, одетые не по форме, подают дурной пример… Кстати, вот сержант Пендри. Он эту неделю дежурит со мной. Он будет вашим взводным сержантом.
Сержант Пендри улыбнулся широко и сердечно, его синие глаза блеснули, отразив огоньки газа и еще сильней напомнив мне молодого Питера Темплера. Сержант протянул руку, я пожал ее, не совсем уверенный, согласуется ли такая фамильярность с понятиями Гуоткина о дисциплине. Но в данных обстоятельствах Гуоткин, по-видимому, допускал рукопожатие. До сих пор он держался тона сурового — подчеркнуто сурового, хотя не слишком убедительного. Теперь же заговорил дружелюбнее.
— Ваше имя, мистер Дженкинс?
— Николас.
— Мое — Роланд. Как говорит наш командир, официальность хороша в строю. Мы ведь собратья-офицеры, одна семья. Так что вне службы я для вас — Роланд. А вы для меня — Николас. Мистер Кедуорд сказал вам, конечно, что его зовут Идуол.
— Сказал. Я так и зову его. Я вообще-то откликаюсь на сокращенье Ник.
Гуоткин прищурился на меня, как бы сомневаясь в значении слова «откликаюсь» и в том, годится ли младшему офицеру употреблять его в разговоре с ротным командиром, но промолчал.
— Идемте, сержант Пендри, — обратился он к своему спутнику, — хочу проверить ночные ведра.
Мы откозыряли, и Гуоткин отправился дальше исполнять свои обязанности дежурного по части — по части ночных ведер, непочтительно сострил я про себя.
— Прошло благополучно, — сказал Кедуорд так, как если бы исход знакомства мог быть и неблагополучным. — Не думаю, чтоб вы ему пришлись против шерсти. Что еще осталось показать вам тут? Ах да, умывальную нашу.
Такова была моя первая встреча с Роландом Гуоткином, встреча чрезвычайно характерная, так как он предстал мне именно в той роли, какую назначил себе: командир, придирчивый службист, с подчиненными не запанибрата, но и не бессердечный сухарь, и прежде всего человек воинского долга. Образ, ясно и твердо очерченный, но вжиться в него до конца Гуоткину не удавалось почему-то. Само уже имя — Роланд Гуоткин было ни то ни се, разнобой поэзии с прозой. Роланд — отзвук песни о Роланде, о рыцарских подвигах:
…Когда Роланд, отважный пэр,
Когда бесстрашный Оливьер
Под Ронсевалем пали!
А Гуоткин значит ведь попросту «маленький Уолтер», «Уолтеренок», что в данном случае не лишено уместности.
— Роланд способен быть чертовски неприятен, — сказал мне Кедуорд, когда мы встали с ним на дружескую ногу. — Больно высоко, знаете ли, себя ставит. У Лина Крэддока отец управляющим в отделении банка, где Роланд, и Лин слышал от своего отца, что Роланд в банковском деле слабак. В инспектора ему вовеки не подняться. Да он, по-моему, и не очень туда рвется. Он полководцем себя воображает. С ним надо ухо востро. Если взъестся — беда.
Именно такое впечатление от Гуоткина и сложилось у меня — что мнения он о себе высокого и что весьма способен омрачить жизнь тому, кого невзлюбит. Вместе с тем он меня странным образом заинтересовал, даже привлек. Было в нем что-то грустное, даже смутно трагическое. Своим чрезмерно-уставным рвением он, уж конечно, далеко превосходил других офицеров батальона. В те сравнительно безмятежные дни начала войны у нас хватало еды и напитков и не исчезло еще в людях благодушие. Если вам было за тридцать, то для зачисления в строй требовались с вашей стороны усилия; и все держали себя почти так, словно прибыли на учебный довоенный сбор (часть наша относилась к территориальной армии), чтобы поразмяться и через несколько недель вернуться домой. Гуоткин вел себя иначе. В нем ощущалась не простая увлеченность штатского своей новой офицерской ролью, не жажда преуспеть на непривычной должности. Высокая решимость чувствовалась в нем, сознание судьбоносной своей призванности. Мне думается, он смотрел на вещи как стендалевский герой — не стендалевский любовник вроде моего приятеля Барнби, отнюдь нет, а юноша честолюбивый и мятущийся, освобожденный наконец войной из тесных рамок жизни в провинциальном городке и приготовившийся к лихим подвигам на фоне военных жанровых картин в духе Месонье, с кирасами и плюмажами, где драгуны, спешась, ведут лошадей через поле пшеницы, где гренадеры гуляют в таверне и девушки подносят им вино в кувшинах. Для подобного почтения к армии — у нас оно никогда не считалось, как на континенте, общераспространенным выражением национальной воли — нужна известная наивность. Кедуорд тоже надеялся выдвинуться, но отнюдь не по-гуоткински. Кедуорд, как выяснилось, военными или иными грезами не занимался. Мы с ним шли уже из казармы к нашему жилью. Кедуорд теперь держался со мной так, будто мы пуд соли вместе съели, — не то чтобы вовсе игнорируя нашу разницу в возрасте, но считая ее, во всяком случае, основанием для благосклонности ко мне.
Читать дальше