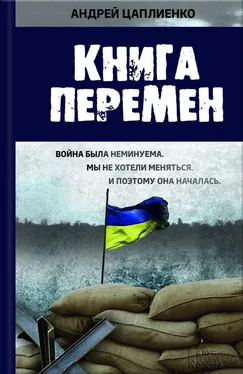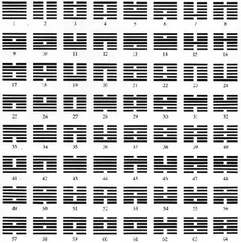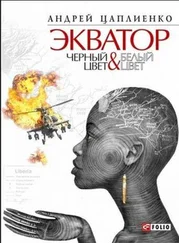Вот не помню, спрашивал ли я бабушку про партию до горячего поцелуя сковородки или после.
– Нет, внучек, я не член КПСС, – ответила та, улыбнувшись.
– Не член? Но ведь ты коммунист, правда? – настаивал я.
Моя простая и прямолинейная бабушка на этот раз промолчала, а мама, посчитав мой вопрос неловким, торопливо ответила за нее:
– Да, да, она коммунист, конечно.
«Коммунист» – это звучало круто. Это был знак принадлежности к элите. И я с детства знал, что можно быть коммунистом и не быть членом Коммунистической партии.
Да, меня не научили шутить. Не рассказали, когда нужно смеяться над хорошими шутками и как отличать их от плохих. Поэтому я всегда думал, что «не-член КПСС» вполне может быть коммунистом.
Мне хотелось совершать подвиги. С красным флагом над головой идти освобождать другие народы от капиталистического ярма. Дарить счастье коллективизации страдающим от проклятых латифундистов фермерам Северной и Южной Америк. Мне грезилось, как я в зеленой каске с красной звездой иду по улицам освобожденного Парижа и над Эйфелевой башней радостная толпа французов поднимает транспарант «Слава советским воинам-освободителям». Я не мог понять, почему загнивающий Запад не видит своего счастья в той славной перспективе, которую им сулит союз равноправных народов, раскинувшийся на одной шестой части планеты, и почему продолжает загнивать. Учитель истории с кривым носом и лягушачьими губами объяснил, что Запад будет загнивать вечно, если мы ему не поможем. Я был вполне согласен с ним.
Вот только почему так трепещет неокрепшее сердце от альбомов, в которые мои дворовые друзья собирали этикетки от жвачек? Какой у них ароматный клубничный запах! Запах сказочных стран, где все счастливы и богаты. И почему мне так нравится, когда из огромных колонок «Радиотехники» в квартире у приятеля разносится на всю улицу:
«Momma’s got a problem.
You don’t know what to say.
Your little baby-boy
Is not home today».
И даже надпись иностранными буквами на латвийской стереосистеме, кажется, немного приближает этот так красиво загнивающий мир. Я не мог понять, чего мне хочется больше: научить весь мир жить в коммунальной квартире, такой же точно, как у меня? Или иметь собственное пространство, в которое окружающий мир может проникнуть только с моего личного разрешения?
В метрику мама записала меня русским. Мне кажется, ради моего благополучия. Тогда, видно, перед человеком со словом «русский» в пятой графе двери открывались чаще и шире. Кем же я был на самом деле? Мамины мама с папой родились в многодетных крестьянских семьях под Курском и Орлом. Так ни разу мне и не удалось съездить и посмотреть на жизнь своих родственников в среднерусской полосе. Еврейские и татарские корни в генеалогии моего отца переплетались с тоненьким ростком, тянувшимся из Запорожской Сечи. Но, видно, был он слишком настырным, этот запорожский росток. Любимая книга детства – «Тарас Бульба». «А поворотись-ка, сынку. Экий ты смешной в этом жупане». Записано по-украински, но русскими буквами. Я был, как автор Бульбы, полон противоречий. Украинская душа, заключенная в русские формы. И первый раз заплакал я над книгой, когда наткнулся на рассказ одного писателя о первой российско-украинской войне. Главная героиня, девушка-лазутчица, бежит от большевиков, безуспешно пытаясь перейти через линию фронта, к своим. Мне было жалко эту девушку, умную и красивую, вынужденную спасаться от страшной орды освободителей. Мне хотелось влюбиться именно в такую девушку и вместе с ней, убегая от зла, перейти на сторону добра. Рассказ этот, помнится, мне попался тоже на русском.
Украина во мне росла очень медленно. Юношей я спорил с ровесниками, пытавшимися доказать мне, что украинская литература скучна, украинское искусство примитивно и что кино делится на хорошее, плохое и киностудии Довженко. Аргументы у меня были слабые. Кроме, конечно, автора Тараса Бульбы. «Но он писал на русском!» – говорили мне умные сверстники. И тогда у меня не оставалось аргументов. На самом деле сейчас, набрасывая на белый лист эти строки на русском, я понимаю, что язык – не аргумент. Главное не то, на каком языке ты пишешь, а над какими книгами плачешь.
Однажды мой лучший друг сказал мне: «Украина будет независимой». В крови играли молодые гормоны. От этого краски мира казались ярче, музыка громче, а девушки красивее. Сначала я не понял, о чем вообще говорит друг, и не знал, что ему ответить. И тогда он предложил напечатать листовки с призывом бороться за независимость Украины. Я сказал да, хорошо, давай напечатаем. Но печатать их надо было много. Как? Мы не знали тогда ни ксероксов, ни принтеров и целую ночь напролет писали от руки воззвания к землякам и соседям, разделив усеянные квадратиками странички из тетради по математике на две половинки. Слева писали на русском, справа на украинском. Вместо слова «товарищи» как-то непривычно и романтично было выводить «панове». Старались писать печатными буквами – опасались, что КГБ устроит графологическую экспертизу. Да что там опасались! Откровенно боялись. До девяносто первого года было еще очень далеко, и о независимой Украине говорил разве что Збигнев Бжезинский в далекой Америке, но он был ястребом и антисоветчиком. А о Стусе и Черноволе мы тогда еще не знали. К чему я это? Да, пожалуй, к тому, что, рассовывая по соседским почтовым ящикам самодельные листовки, я на самом деле ни о какой независимой Украине не думал. На сей патриотический акт меня толкал врожденный авантюризм и желание посмотреть, что будет с крамольными бумажками после того, как они попадут в руки знакомых, малознакомых и незнакомых людей. Но на самом деле не произошло ничего. Утром в Харькове все так же звенели трамвайные рельсы, когда тяжелые вагоны поворачивали на перекрестках, люди торопились на заводы и в конструкторские бюро, а КГБ не спешил арестовывать ни меня, ни моего школьного друга. Жаль, что все наивные листовки разошлись. Интересно было бы проверить грамматические ошибки в тексте и оценить с дистанции сегодняшнего дня радикализм воззвания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу