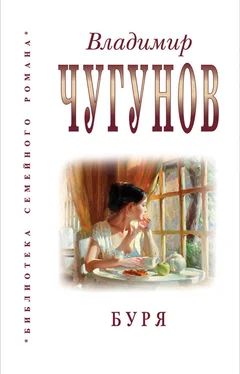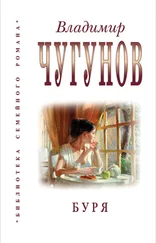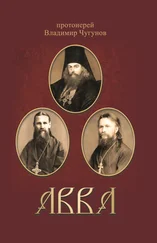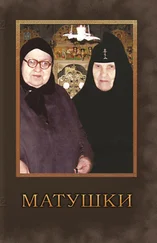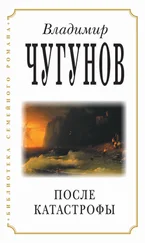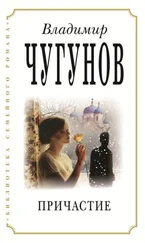Но более всего помню самую дорогую детсадошную игрушку — управляемую через шнур в металлической оплётке довольно большого размера «Победу». Игрушку никогда и никому не давали. Заведующая держала её в своём кабинете. Но бабушка, как уборщица, имевшая доступ во все кабинеты, мне её давала. Сколько ни с чем не сравнимых минут радости подарила мне эта удивительная машина! Дверцы открывались и закрывались, фары и задние фонари во время движения светились, «Победа» бибикала, а за рулём сидел маленький человечек в военной форме. А какие славные у неё были колёсики с хромированными колпачками! Совсем как настоящие!
И эту «Победу» я сломал…
Не специально. Что-то само собой лопнуло в шнуре, когда я, усиленно нажимая ручечку, от которой приводилась в движение машина, отъезжая на некоторое расстояние для разгона, пытался перескочить через дверной порог. Но бедная машинка в последнюю, самую отчаянную попытку вдруг беспомощно ткнулась хромированным бампером в порог, откатилась назад и навсегда затихла… Бабушке, разумеется, попало, ну а мне не было ничего… Что с меня, малыша, спрашивать?
В подростковый период, когда я пристрастился было играть с местной шпаной в свару на деньги, «от каторги» спасла меня опять же бабушка. Как именно? А пришла однажды, можно сказать, с «древием суковатым» в руке на танцплощадку, где мы в музыкальной раковине, сидя на полу, с бычками в зубах и тусклой медью в чьей-то фуражке на кону, щурясь от едкого дыма, «тянули масть» и, вопреки правилам, «сорвав банк», гнала меня от парка через весь посёлок, на виду у «добрых людей» до самого дома, приговаривая: «Не-эт, вы только посмотрите, люди добрые, на этого шалопая! Со шпаной связался! На каторгу захотел? Иди-иди, картёжник несчастный, не оглядывайся!»
И как мне было её не любить?
После ужина мы часа полтора читали в бабушкиной комнатке Евангелие, которое в этот вечер всем особенно хотелось слушать, а потом внимали бабушкиным рассказам «про святых угодничков». Особенно поразила Машу история про Алексия — человека Божия, ушедшего из дома накануне первой брачной ночи, скитавшегося «по распутьям мира сего», вернувшегося в родной дом «неузнанным странником» и всю оставшуюся жизнь прожившего «возля родителев и горемышной жены» до самой смерти под видом «неключимово раба». «И побоев множество претерпел, и укоризны…» Лишь «в посмертной записке открылась правда-истина».
— Неужели семейная жизнь такая плохая? — вырвалось у Маши.
— Не плохая, а хужее, — ответила бабушка.
— А как же батюшка Григорий?
— Тык… — и больше ничего не смогла на это ответить.
Часу в десятом к нам заглянул вернувшийся из города отец.
— Здра-асте! — кивнул он всем сразу и с нескрываемым любопытством посмотрел на Машу.
Она немного смутилась, стала одёргивать платье.
— Я на рыбалку, — сказал он бабушке. — А вы, если хотите, можете подняться наверх. Ну что вам тут тесниться? Только, чур, уговор: ничего больше без спросу не трогать. Договорились?
Я кивнул, и он ушёл.
Захватив чайник, чашки и сладости, мы поднялись в мансарду. Бабушка напутствовала нас своим ласковым: «Подите, подите, милые, с Богом». И удалилась в свою каморку проливать благодарные слёзы.
Хорошо было наверху! Мы вышли на балкон. Солнце садилось. Длинные тени от яблонь вытянулись через весь сад. По чёрной глади озера гуляла рыба. Ещё немного, каких-нибудь полчаса, и всё покроется густым мраком тёплой июльской ночи. Кто бы знал, как я любил и этот кажущийся живым мрак, и стреляющие лучи вещего звездопада, и мою таинственную связь в эти бессонные часы с отворяющимися мирами! Совершенно иные чувства навевал день. Марево, скука, беспричинная и безысходная тоска. Ах, скорее бы прошёл этот длинный день, скорее бы ночь, тишина, звездопад, вечность! Связи между днём и ночью я не видел никакой. Это были два полярных мира. И я попытался об этом сказать.
— Да, так, — согласилась Mania. — И тем не менее ночной город я люблю тоже.
— И я! — поддержала Люба. — Особенно когда в верхней части огни зажгут, миллионы огней! Так красиво! Так туда тянет! Как в сказку!
Вера весь вечер молчала. Она всегда молчала больше всех. И это нисколько не удивляло. Почему-то именно ей, хотя внешне и похожей на сестру, к лицу было молчание. Что-то тихое, тёплое и задушевное было в чертах её задумчивого лица. Я любил их обеих, хохотушку и «царевну Несмеяну», как своих родных сестёр с детства. Когда наши мамы жили в ладу, мы семьями ходили друг к другу в гости. Отношения испортились после того, когда Леонид Андреевич, изрядно поддавший, однажды признался во всеуслышание, что с музыкального училища, где познакомился с мамой, а через него — и папа, «укравший мою мечту», её любит. И хотя убедительно просил всех, и особенно свою «дорогую половину» понять его правильно, Ольга Васильевна решительно от этого отказалась. Мало того, при всех отвесила ему оплеуху, плакала и кричала на весь дом, что он ей всю жизнь загубил, «паразит», чтоб сегодня же убирался к… рогатому… Грозилась сегодня же выставить на порог чемодан… Но в тот же вечер «пожалела» опять «и взяла к себе жить»… А вот в гости к нам больше не ходила. Люба рассказывала: «Только папа начнёт собираться к вам, сразу начинается! «Пойдёшь?» — спросит маму. А она: «Ещё не хватало смотреть, как ты на свою любовь пялиться будешь! Мало тебе клуба? И ходит вокруг неё, и ходит, глядеть противно!» — «Где? Кто ходит? Приснилось тебе?» — «Молчал бы, полюбовник несчастный!» И он молчал. Всю жизнь. А вот ко мне и моему отцу Ольга Васильевна относилась с уважением. Чуть что — и сразу тыкала мужа: «Вон! На людей посмотри! А потом на себя!» — «Ну посмотрел. И что?» — «И ничего не заметил?» — «Нет». «Это и странно!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу