И тогда в этом, как казалось Чубаку, недалеком будущем, на вопрос «кто ты?» он ответит с достоинством и честью — «Убедитель».
«Ах ты! — вдруг вспомнил он о деле Чайкиной. — Если бы Лиза… А так… — пятерка», — определил ей Степан срок пребывания в одном из северных санаториев с трехразовым питанием, трудотерапией и карантинным режимом.
В санатории, как и на фронте, все пять лет Чайка была медсестрой и удивляла лагерных пьяниц-фельдшеров, выдающих себя за врачей, безошибочным чутьем на болезни.
Здесь же она нашла и свое прошлое, Екатерины Ивановны Чайкиной. А началось оно с того, что заполняя анкету под присмотром сонного здоровенного детины, работавшего здесь за писца, и дойдя до графы «родители», Чайка замешкалась, парубок понял это по-своему, подошел, сунул в ее большемерную «спецу» руку и… отскочил, как-будто наткнулся, шаря в бюстагальтерс, на холодный бок мины… А Чайка даже не шелохнулась и знать не знала, чего же испугался писарь. «Так ты что, детдомовская?» — спросил, глядя куда-то в сторону, борцеподобный писарь. «Детдомовская», — неожиданно согласилась Чайка и почувствовала, как сразу стало легко на душе.
Открыв эпитетом амбарный замок на складе прошлого, Чайка теперь без труда могла пройти в него, чтобы выбрать там себе подходящее барахло — биографию. И прошлое, как пряжа из рыхлого облака шерсти, росло у нее прямо на глазах: из книг о суровом детстве первых лет социализма, из фильмов о беспризорниках и из трудов Макаренко пряла его Чайка. И вскорости выпрялось у нее вполне типичное детство, проведенное в одном из образцовых детских учреждений и крепко связанное с революционными преобразованиями, и юность выпрялась — в помощи партии через комсомольскую работу, и молодость — в добровольном содействии армии, авиации и флоту. Чего-то, конечно, не хватало в прошлом, особенно в детстве, какой-то плотности воспоминаний, их мерности что-ли, но тогда много чего не хватало, и приходилось мириться: и с нехваткой мирились, и с излишествами, была бы убежденность. Без нее — никуда, точнее, без нее — Колыма.
Жила Чайка одна: и замуж не выходила, и детей ни с кем не прижила, — все из-за того, что не складывалось с мужчинами то простейшее множество фигур, которое приводит либо в комнату при исполкоме с нависшим гербом и спящей на ходу сочетательшей, либо тайком в чужую постель, либо на узкую скамью в тесном зале с дамой на высоком кресле, под тем же гербом и с теми же оборотами речи. Она лечилась, лечение, не знающее что лечить, разумеется, не помогло — и вновь при каждой попытке сближения тел, ее и того другого, что обещал ей, лживо или правдиво, крепкую семью с умеренно пьющим, Чайка вместолюбимогои любящеголица, видела падающего на нее красноармейца, в шинели, с красным окровавленным штыком. Какое уж тут наслаждение, когда не коитус, а прямо штыковая атака!
Так бы и состарилась Чайка в сонном мирном существовании, регулярно получая в больнице грамоты и знаки почета, время от времени — юбилейные медали, еще реже — премии и отпуска, участвовала бы себе в вечном круге социалистического соревнования, помогала бы, шефствовала, боролась и дисциплинировала, и состояла бы членом десятка тайных обществ, невидимо и неслышимо прядущих свою всесоюзную деятельность, и скромными вкладами помогала бы им бороться за охрану природы ли, памятников ли, а то и за все на свете, за мир и Советскую власть, — так бы и стоять ей в обществе со-стоящих, стоять да так ничего и не выстоять, не окажи она мизерной в мастштабах страны помощи соседскому сорванцу Кольке Семихвостову.
На пыльном чердаке, среди высохших тел голубей, нашла она Кольку. Привел ее в это таинственное место, наполненное запахами старины, смерти и тления, приятель Кольки — шустрый полненький Славик. Конечно же, она ничего не поняла из его лживого и умоляющего рассказа. Но у нее сразу защекотало в носу — верный признак. И она покорно пошла вслед за пионером.
Их встретило хлопанье множества еще живых крыльев на мертвом ковре птиц — том, что лежал на чердачных перекрытиях и придавал этим интерьерам вид декораций к приключенческому фильму. Когда птицы уселись, она услышала тихое постанывание и мальчишеский, уже отдающий баском, плач… Колька напоролся на гвоздь, растущий из полузасыпанной битым шифером и голубиным пометом балки, да так и сидел, стараясь не глядеть на ржавое острие, торчащее из шнуровки.
Его никак не удавалось снять с гвоздя. При малейшем прикосновении этот храбрец закатывал глаза и по-бабьи голосил. Чайка применила верное средство — кольнула его в пятку, от испуга он дернулся и через мгновение был у нее на руках.
Читать дальше



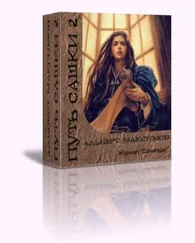




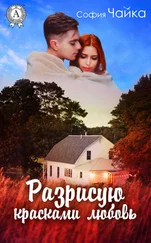
![Екатерина Соболь - Медная чайка [litres]](/books/395202/ekaterina-sobol-mednaya-chajka-litres-thumb.webp)
