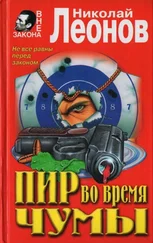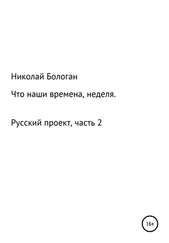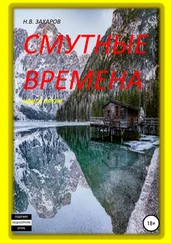— В пичку пошел, — отвечал я.
— Покойничек в пичку, и я в пичку, — шутил Потап. Говорить можно первое, что приходит в голову. Слова ничего не значат. Лишь бы не было в них подсказки.
— Пичка, трефка.
— Пичка, пичка.
Милая моя пичка…
Пришел Шура Корсиков. Он улыбался, немного неестественно, но он всегда улыбался так.
— Выгнали меня, — сказал он.
— Не тебя первого, — выдал Тазик. Он не понимал, когда какие слова надо говорить. Шурик сел на стул возле стола и постучал по столу кистью. Кисть у него была мощная. Пальцы длинные. Так, как сейчас, стучал он ими тогда, когда ему не везло.
— Куда ты теперь? — спросил Тазик.
— Не знаю. По миру пойду. Он давно собирался уйти. «Надо выбирать, — говорил он, — уйти или учиться. Ходить в троечниках надоело, как недоумок какой». С тех пор, как он говорил, что надо выбирать (это он говорил на факультете, надо же такое, встретиться с Шурой в корпусе), не прошло и полгода. Губы у него были тонкие и ядовитые, ходил он в брюках с тонким ремнем, никто не ходил с таким ремнем, даже Шут; и штаны на Шурике сидели неважно — висели, как на чучеле. Одежда на нем вся была какая-то старомодная, может, поэтому и улыбался он как-то по старорежимному, как будто внутри у него что-то застряло; не в горле, а в душе. Он был нескладный, но какой-то очень приспособленный. Иногда ребята дурачились: садились напротив, локти на стол, кисти сцепляли, и — кто кого пережмет. Шурик мог покраснеть, но он не проигрывал.
— Слабак, — говорил он с той же старомодной, неискренней какой-то улыбкой, чем и портил все. На первый взгляд он был вроде и беззащитный, молчал все больше, если что и скажет, то неинтересное что-нибудь или нелепость какую: «Бред сонного ежика» или: «Кондово».
Выгнали Шурика внезапно. Мы и опомниться не успели. Никто не знал, за что. Наверно, за игру в карты на деньги, больше не за что. Он даже не курил. Как он высиживал в дыму сутками? Не человек, а робот. Один раз мы уже ходатайствовали группой перед деканатом, чтоб Шурика не исключали, и тогда его не выгнали. Но в этот раз мы походатайствовать не успели.
— Может, соберем собрание, бумагу напишем, — предложил Потап.
— Можно прямо здесь, — сказал Тазик. — Людей хватает. Кворум есть.
— Как мертвому припарка, — отмахнулся Шурик. — Уже поздно.
Шурик начал играть раньше нас. Уже первой зимой он стал грозой старшекурсников и в деканате числился не только как играющий студент, но и как разлагающий тип.
— Меня выгоняют за то, что я разлагаю молодежь, — грустно сказал он. Даже кистью перестал стучать.
— Шурик разлагает нас, — опять заулыбался Тазик, а Шут сделал такое выражение лица, что было видно: его больше разложить уже невозможно. Язык у него слегка вывалился, как у конченного.
Шурика было жалко, и мы играли, играли, играли, чтоб заиграть потерянного товарища.
— Сдавай, — говорил Потап.
— Картишки б новые купить, — бурчал Тазик.
— Прикупим, — говорил Шут. Мы играли, и время шло в одну сторону. Иногда, сталкиваясь с каким-нибудь раскладом, вспоминали Шурика.
— Корсикова здесь нет, — говорил Тазик. Но кто вспоминал его штаны, кто придурковатую ухмылку, а кто ремень, похожий на веревку. Шурика жалко не было. Нам некогда было жалеть, да и кисть у него была мощная.
Пить пиво мы начали зимой.
— Пойдем, — сказал Шут, — пивка попьем. Я подчинился ему быстро. Только внутри что-то щелкнуло, как клавишный выключатель.
— Праздник будет, — сказал Шут. Мы зашли в буфет, а дальше по проходу — столовая.
— По кружечке? — спросил меня Шут, и я кивнул.
— По кружке, — сказал он продавщице, и она налила по две неполных.
— Мы хотели по одной, — сказал Шут, но заплатил.
— Откуда я знаю, сколько вас там, алкоголиков.
— Пиво хорошее, — сказал Шут, — свежачок. Пиво пенилось.
— Оно пенится, — сказал я.
— Ничего, — улыбнулся Шут, — пена скоро сядет. Тем, кому трудно было стоять, разрешалось зайти в столовую и сесть с краю, поближе к буфету. В двух углах — с двух сторон двери — всегда было оживленно, как в театре. Мы с Шутом в театр не ходили. Я его раз повел, и то пришлось за ним следить. Он поступил как новичок, у которого душа не терпит нагрузки. Правда, Джульетта была чересчур резкая, и чувствовалось, что грубая, но можно было б и не выпивать. «Не забегаловка все-таки», — учил я Шута. «Я не вытерпел», — честно признался он, и поэтому я ему все простил.
В «Пиве» я был первый раз (не мимо «Пива», а в «Пиве»), и Шут решил блеснуть воспитанием.
Читать дальше