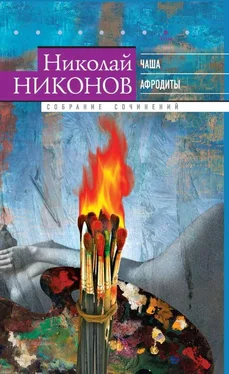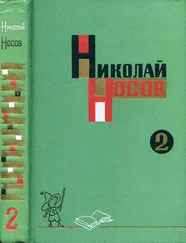Надия! Глядела ласково, испытующе, любовно, призывно и, может быть, томно на того, кто нравился ей ответно. Я боялся даже подумать, представить, сказать словами: «Кого она любила!» А в душе все вспыхивало: втюрился! Позарез? В сорокалетнюю? Неужели ее большая, женская и чем-то будто даже материнская полнота так люба мне, и я даже глаз не могу отвести от собственного (и незаконченного) творенья?
Вы помните Энгра? «Турецкую баню»? Женщина на переднем плане слегка напоминала эту «мою»! Надю. Но только едва, в общих чертах и чуть в полноте. Потому что Надя была куда красивее, а писал я, как Энгр, лефранов-скими красками. Коробку их подарил мне (для диплома!) щедрый Николай Семенович Болотников. И он же дал читать книги Вентури о мастерах новейшей живописи.
Она явилась ровно в шесть, как пообещала. И я ее едва узнал. Была, конечно, без косынки, в зеленоватом, льющемся как бы, шелковом платье. В туфлях на каблуках. Накрашенная. И удивила. Да, и сейчас она была красивой, но потеряла что-то в этом, хоть и торжественном, женском наряде. Там, на «объекте», в простом белом платке, в комбинезонных штанах, белой майке и со своей ореховой челкой, без лишней краски на губах и ресницах, была моложе, милее, доступнее, лукавее, желаннее и проще одновременно. Мужчины любят в женщине простоту. А женщинам это невдомек. Здесь она была передо мной уже баба, женщина «в возрасте», который может и отпугнуть, — толстая, румяная, утратившая какую-то важную частицу своего прежнего и будто бы девственного (именно так!). Все это кольнуло меня ступенью разочарования — не разочарования, а просто отрезвленности — потери мечты?
«Ей ведь за сорок будет!» — подумал я, а Надя, зацепив мой взгляд и очень тонко оценивая, сказала:
— Ми-не знаешь ведь сколько? Уж сорок три скора будит. Что скрывать-то! А ты думал — девочка? — От нее пахнуло вином. Опять поняла.
— Получка севодни. Я для храбрости. К низнакомому видь мужику в гости пошла. Машка-пьянь принесла бутылку. Вот и выпили. Потом домой съездила, потом к тибе. А правда, ты художник. Вон красок сколько. Бедно живешь, аднако. Что без жены-то? Ущишься? Для ущиника ты, пожалуй, взрослый. Ну, показывай, как ты мине нарисовал?
Я к тибе сегодня в гости пришла. Рисовать в другой рас будишь. Когда в спицовке. Показывай!
Снял тряпку с мольберта. Отошел от окна. Надия встала рядом. Смотрела. А с подрамника глядела на нее другая Надия. Молодая, веселая, смешливая. Глаза, щеки, губы вот-вот прыснут, взорвутся хохотом. И тут только, стоя рядом со своей моделью, с женщиной, от которой пряно пахло ее женской полнотой, едва уловимым, но ясным запахом живой плоти, дешевых духов и выпитого вина, я понял, что опять попал! Состоялась моя картина! Еще не завершенную, не законченную ее можно было повесить хоть куда: в Третьяковку, в Русский, в Эрмитаж, в Лувр! Смелость? Самонадеянность? Но я же опять по-пал! Господи! Ты, что ли, дал мне эту победу? Дал ощущение моего совершенства?! Крыльев?! Это знают, наверное, одни художники! Блаженство ни с чем несравнимого попадания. Художники, охотники, снайперы, открыватели новых материков? Или…
— Молодец ты, однако… Здорово молодец, — сказала Надия. Она повернулась ко мне и стояла, покусывая полную розовую губу. — Как это здорово миня нарисовал. Такая я тут молодая, хорошая. Красивая. Я правда, что ли, такая? А? Правда?
И вдруг, охватив меня полными мягкими руками, притиснув к шелковому бюсту, к горячим щекам, стала целовать, обнимая все крепче, неотрывнее, судорожнее.
— Что ты?! Тебе понравилось? — бормотал я, упираясь носом ей в нежное ухо, в волосы, дурманно пахнущие, ощущая до дрожи уже покорное сопротивление ее грудей, а она все сильнее стискивала меня, вжималась в меня своим большим упруго-жмущим животом. «Неужели сейчас? Неужели будет?!» — путано думал я, весь в горячем, неожиданно стыдном, сладком бреду, закрыв глаза и не ощущая иного, как волнение притиснутого ко мне незнакомонужного тела, в которое я уже упирал, давил внизу. «Счас, будет это… Это? ЭТО? Ведь у меня этого с женщиной… По-настоящему… Никогда… Не было… Не было… С женщиной… настоящей! Не было…» (А вдруг все это я бормотал вслух?)
И она же двинула меня к кровати. Сильная, тяжелая. Никогда и никак не мог предположить, что женщина такая сильная. Мы повалились на кровать. Или это она повалила меня, что-то бормоча на этот раз по-татарски, тянула, раздергивала брючный ремень, продолжая при этом говорить, целовать, даже слегка кусая мое лицо лижущими укусами-поцелуями. А потом я почувствовал ее властную, теплую, нетерпеливую руку, ее жадное, умелое, доящее движение (все женщины, может, прирожденные доярки?).
Читать дальше