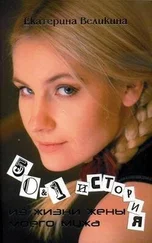Тук-тук приближался к больнице, и хотя до нее было еще далековато, запах смерти явственно витал в воздухе. Группу пострадавших туристов я заметил еще издалека. Они медленно кружили под баньяном, и у меня снова возникло ощущение, будто я снимаюсь в фильме про зомби в роли человека, выжившего в какой-то катастрофе, и еду в машине мимо группы живых мертвецов, провожающих меня пустыми взглядами. По широкой, на удивление безлюдной улице мы добрались до рыночной площади, где Филипп сообщил Жерому и Дельфине о смерти Джульетты, оттуда спустились на пляж Медакетии — безжизненное пространство, покрытое черной вонючей грязью, из которой торчали остовы лодок, развалины домов, отдельные штакетины поваленных заборчиков, вывороченные с корнями деревья. Кое-где виднелись уцелевшие стены домов. Среди руин копошились люди, время от времени выуживая из грязи то помятый таз, то обрывки рыболовной сети, то выщербленную тарелку. Филиппа все узнавали, подходили к нему, обнимались, плакали и на ломаном английском обменивались последними новостями. Главным образом, именами погибших. Ничего нового Филипп им не сообщил: о смерти Джульетты, Осанди и М. Н. всем уже было известно. Но он не знал, как сложилась судьба соседей, и лишь жалобно стонал на ланкийский манер, заслышав имя очередной жертвы стихии. Филипп не хвастался, когда говорил, что знает здесь всех, и все считают его своим. Этих ланкийских рыбаков он оплакивал, как собственных родственников. Каждому из уцелевших он говорил, что сейчас ему необходимо уехать с Дельфиной и Жеромом, но вскоре он вернется, найдет деньги и вернется уже надолго, чтобы помогать им восстанавливать разрушенное стихией. Казалось, для Филиппа было очень важно произносить, а для них слышать эти слова, во всяком случае, его обнимали пылко и искренне, как родного. Мы пробирались между развалинами, останавливаясь, чтобы перекинуться словами с теми, кому повезло остаться в живых, и наконец, вышли к участку М. Н. От гостевого домика ничего не осталось, а на том месте, где находилось бунгало, арендованное Филиппом, виднелись только покореженные половые доски, бак от душа, и остаток стены, расписанный яркими пальмами, рыбами, лодками… Эту фреску Дельфина с Джульеттой сделали в прошлом году. Трехлетняя Джульетта страшно гордилась тем, что помогает матери. Филипп сел перед стеной посреди развалин. Мы с Жаном-Батистом отошли в сторонку и смотрели на него издали. «А ты бы поступил, как он, окажись на его месте?» — внезапно спросил Жан-Батист. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, если бы погибла твоя четырехлетняя дочка или мы с Габриэлем, твои сыновья, ты бы стал помогать рыбаками Медакетии?» Я в нерешительности медлил с ответом. «Как по мне, — нарушил молчание Жан-Батист, — то я бы, наверно, наплевал на местных рыбаков». Поразмыслив, я сказал, что стремление помочь — либо свидетельство исключительного благородства, либо общее для всех правило выживания, и что последнее представляется мне более предпочтительным. Более человечным, что ли. В какой-то момент возникает ситуация, когда нет ничего более естественного, чем думать о себе. Я не верю, что человек, у которого погиб ребенок, будет беспокоиться о человечестве в целом, точно так же я не верю, что Филипп и Жером озабочены судьбами человечества, на мой взгляд, главное для них — пережить смерть Джульетты и спасти Дельфину.
Вернувшись в отель, я попытался связаться с Элен по мобильнику, но она не отвечала. К завтраку ни она, ни Жером не появились. Мы подождали немного, и позавтракали без них. На протяжении двух последних дней владельцы отеля проявили себя с наилучшей стороны: размещали и кормили всех, кто добирался до отеля, к оставшимся без гроша беженцам относились с таким же вниманием, как к платежеспособным постояльцам. Из-за отсутствия снабжения запасы продовольствия таяли, меню становилось все более скромным, однако в обращении с гостями обслуживающий персонал сохранял церемонную почтительность, свойственную ему до катастрофы. Я нервничал, сидел, как на иголках, и постоянно поглядывал на часы. Я бы ни за что в жизни не признался в истинной причине своего беспокойства, но правда заключалась в том, что моя женщина отправилась невесть куда с другим мужчиной. Двумя днями раньше я считал ее неинтересной и утратившей былой пыл, теперь же она представлялась мне персонажем романа или приключенческого фильма, прекрасной и отчаянной журналисткой, демонстрирующей свои лучшие качества в самый разгар событий. Но, увы, не я был героем этого романа или фильма. Я выступал, скорее, в роли мужа-дипломата, ироничного, уравновешенного, идеально вписывающегося в атмосферу коктейлей и дипломатических приемов, но, случись красным кхмерам окружить посольство, он теряется, уступает другим право принимать решения, и тогда его жена с другим мужчиной идет на линию огня, бросает вызов опасности, смотрит смерти в лицо. Ожидание становилось все более тревожным и, чтобы как-то отвлечься, я попытался читать «Рыбу-скорпион». Книга раскрылась на главе, где Матара упоминается, как деревня, населенная чрезвычайно опасными колдунами, и мне в глаза бросилась фраза: «Если бы человек знал, что его ожидает, он бы никогда не осмелился чувствовать себя счастливым». Я никогда не осмеливался, поэтому сказанное меня не касалось. Я сыграл партию в шахматы с Жаном-Батистом, порисовал с Родриго всяких жутких монстров: лист бумаги перегибался таким образом, чтобы партнер по игре не видел, что на нем уже нарисовано. Эта игра в духе сюрреализма называлась «очаровательный труп» [6] Cadavre exquis (фр.) — буриме — дословно переводится, как «изысканный, очаровательный труп». Буриме — литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда еще и на заданную тему. Иногда к буриме относят и другую игру, называемую также «игрой в чепуху»: записывают несколько строк или даже строф и передают листок партнеру для продолжения, оставив видимыми только последние из них. Можно также начать рисунок какого-либо существа, скажем, с головы, подвернув листок бумаги так, чтобы партнер видел только шею и дорисовал туловище и т. д. — Прим. пер.
, и когда Родриго громко произнес это выражение, я смутился и дал ему понять, что надо говорить тихо. Он тут же сообразил, что к чему, и бросил обеспокоенный взгляд на Дельфину. Спустя какое-то время я завязал с ней разговор, и она рассказала о своей жизни в Сент-Эмильоне. Она всегда любила природу, ей даже в голову не приходила мысль переехать из сельской местности в город. Дельфина никогда не стремилась к самоутверждению или независимости через работу: она была неработающей молодой матерью, свободной от всяческих комплексов, и совершенно нормально воспринимала традиционное распределение ролей в семье: Жером зарабатывал деньги, она занималась ребенком, домом, садом, всякой живностью. Малышка Джульетта обожала домашних животных, особенно кроликов, и сама кормила их, не доверяя эту работу никому. Каждый день Жером приходил домой обедать. Он неторопливо беседовал с женой, наслаждался приготовленной ею пищей, играл с дочкой. Да, он работал, но в своем ритме, всегда открытый для общения с ними, тестем и несколькими близкими друзьями. Клиенты, с которыми ему приходилось общаться по работе, в некотором смысле расширяли этот семейный круг, пропитанный светлой атмосферой радости и счастья. Слушая Дельфину, я смотрел на нее и видел перед собой светловолосую, привлекательную молодую женщину, чем-то похожую на ребенка. По словам отца, она была похожа на Ванессу Паради или скорее, и он подчеркивал этот нюанс, Ванесса Паради была похожа на его дочь. Оно-то так, но, на мой взгляд, у Ванессы было больше сходства с малышкой Джульеттой, хотя я видел ее всего один раз, да и то мельком. Я пытался представить себе их жизнь, такую безмятежную и так не похожую на мою. Дельфина говорила тихим, спокойным голосом, но это было спокойствие сомнамбулы, и все глаголы в ее речи имели форму прошедшего времени.
Читать дальше