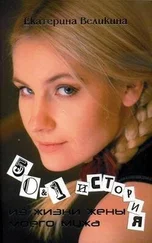Больше всего Филипп любил приезжать в Медакетию за месяц до прибытия остальных. Он наслаждался одиночеством и жил ожиданием семьи: любимой супруги, замечательной дочери с мужем, ставшим ему лучшим другом, и внучки, как две капли воды похожей на мать в таком же возрасте. Что ни говори, его жизнь сложилась, как надо, лучше не пожелаешь. В нужный момент он умел идти на риск — переехал в Сент-Эмильон, сменил профессию, развелся, — но никогда не гонялся за несбыточными мечтами, не причинял боль близким, а теперь уже и не стремился к покорению каких-то немыслимых вершин. Теперь он наслаждался тем, чего достиг — счастьем. У них с Жеромом была еще одна общая черта, весьма редкая среди молодых мужчин его возраста — слегка насмешливый беззлобный взгляд на людей, которые суетятся, доводят себя до стресса, плетут интриги, рвутся к власти и возвышению над ближними. Амбициозные, вечно неудовлетворенные людишки, строящие из себя больших начальников. Жером и он сам принадлежали, скорее, к иной категории людей, к тем, кто умел хорошо работать и, получив за свой труд положенное вознаграждение, спокойно пользовался заработанными деньгами, вместо того, чтобы метаться в поисках приработка. Они имели все, что нужно для счастья, и были довольны своей судьбой, чем далеко не каждый может похвастаться, но главное — они были достаточно благоразумны, чтобы довольствоваться тем, что имеют, и не желать большего. Умение жить без угрызений совести и суеты, поддерживать ленивый треп в тени баньяна, попивая при этом холодное пиво — дар свыше. Нужно возделывать свой сад. Ловить момент. Чтобы жить счастливо, нужно жить замкнуто. Филипп сформулировал свой принцип несколько иначе, но я понял его именно в такой трактовке, и пока он говорил, ловил себя на мысли, что страшно далек от такого благоразумия: я не доволен жизнью, постоянно нахожусь в стрессовом состоянии, жажду славы и никого не люблю — мне все кажется, что в другом месте, не сегодня-завтра найду кого-нибудь получше.
Филипп думал: я нашел место, где хочу жить и где хочу умереть. Я привез сюда свою семью и здесь нашел вторую, ибо семья М. Н. стала для меня такой же родной. Когда я сижу, закрыв глаза, в плетеном кресле, когда чувствую под босыми ступнями деревянный настил террасы перед бунгало, когда слышу, как шуршит по песку метла из пальмового волокна, которой М. Н. каждое утро подметает свой дворик, этот звук, такой знакомый и такой успокаивающий, говорит мне: ты дома. Ты у себя дома. Покончив с уборкой, М. Н. придет ко мне, невозмутимый и важный в своем ярко-красном саронге. Мы выкурим по сигарете и перекинемся парой малозначащих фраз, как старые приятели, привыкшие понимать друг друга без лишних слов. Я думаю, что стал настоящим ланкийцем, сказал однажды Филипп, и вспомнил дружеский, но вместе с тем слегка ироничный взгляд М. Н.: мол, думай, думай… Тогда это его задело, но в то же время послужило уроком. Да, он стал другом, но при этом остался иностранцем. Что бы он там ни думал, его жизнь была не здесь.
Сегодня Филипп мог бы думать иначе: моя внучка умерла в Медакетии, наше счастье развеялось в один миг, я больше и слышать не хочу о Медакетии. Но он так не думал. Теперь он мог доказать мертвому М. Н., что его жизнь была именно здесь, среди них, что он один из них, и после счастливых дней, прожитых вместе, он не оставит их в беде, не бросит через плечо: счастливо оставаться, может, еще увидимся… Он думал об уцелевших домочадцах М. Н., об их разрушенных домах, о домах соседей-рыбаков, и говорил сам себе: я должен остаться с ними, помочь им отстроиться и начать жизнь заново. Филипп хотел быть полезным, разве мог он поступить иначе?
Никто не знал, когда мы сможем отсюда уехать. Никто не знал, куда увезли тело Джульетты: то ли в Матару, то ли в Коломбо. Жером, Дельфина и Филипп не уедут без нее, а мы не уедем без них. Матара находилась слишком далеко, и на тук-туке туда не добраться, но за завтраком хозяин отеля сообщил, что в ту сторону поедет полицейский грузовик, и ему удалось уговорить полицейских взять с собой Жерома. Элен тут же предложила составить ему компанию, и он согласился. Я думаю, мне стоило возразить: мол, это мужское дело, но я лишь проводил их взглядом, испытывая, к своему стыду, необъяснимую ревность. Я чувствовал себя ребенком, которого взрослые оставили дома, чтобы он не мешал им заниматься серьезными делами. Как Жан-Батист и Родриго: вот уже двое суток мальчишки были предоставлены сами себе. Мы занимались Филиппом, Дельфиной и Жеромом, а на собственных детей времени уже не оставалось. Они целыми днями сидели взаперти в своем бунгало, перечитывая старые, затертые до дыр комиксы. Мы виделись лишь за едой, мальчики дулись на нас, отмалчивались, дисциплина падала на глазах. Я их понимал: чертовски трудно сидеть в четырех стенах и терпеть чрезмерную опеку со стороны взрослых, когда вокруг происходят такие невероятные события, а ты не имеешь права принять в них участие. Я подумал: еще неизвестно, что хуже — вид трупов или шоры на глазах. Во всяком случае, Жан-Батист был достаточно взрослым, чтобы пойти со мной в деревню. Филипп, поглощенный своими планами по оказанию помощи местным жителям, как раз собирался туда, чтобы самостоятельно оценить обстановку. Я не решался оставить Родриго на попечение Дельфины, но она сказала, что мне не о чем беспокоиться, и мы отправились в путь.
Читать дальше