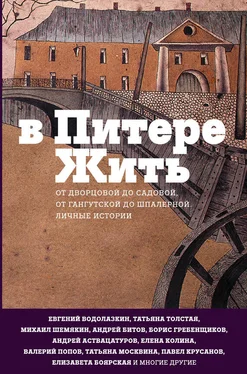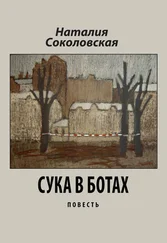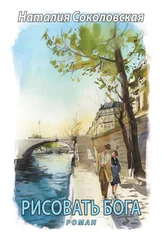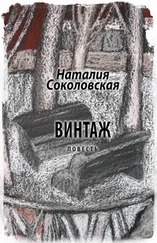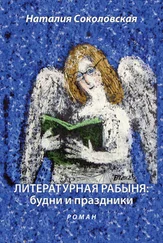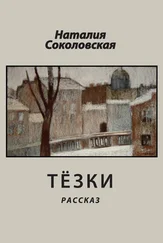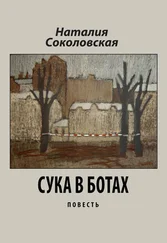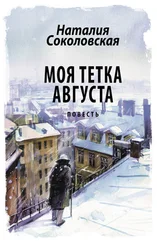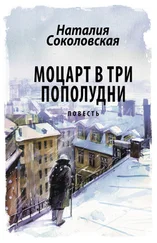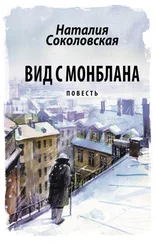До революции бабушке принадлежала вся квартира. В советское время, когда начались уплотнения (в город, опустевший в начале двадцатых, спасаясь от голода, ужасов Гражданской войны и снова от голода, хлынули беженцы), но бабушку пока что не трогали, она, поняв, куда дует революционный ветер, уплотнилась сама: не дожидаясь навязанных государством соседей, подселила к себе трех, как она говорила, порядочных женщин – двух сестер, старых дев и деклассированных дворянок, и одну тайную монашенку. Их жизнь в этой псевдокоммуналке в каком-то смысле была продолжением «царского времени», чего не скажешь о маминой коммунальной квартире, сотрясаемой кухонными дрязгами и пьяными скандалами. Вспоминая свое довоенное детство, мама говорила, что в чинной бабушкиной квартире, куда родители отправляли ее время от времени на денек-другой, она сама себя не узнавала, превращаясь в другую девочку. У бабушки обедали за столом, покрытым скатертью. Кузнецовские тарелки, тяжелые серебряные приборы. Тихие голоса. Эти голоса отчего-то запомнились особенно, видимо, по контрасту с вечной коммунальной ораниной в ее родной квартире. Сообразно «царскому времени» маму переодевали в красивое платье: шерстяное или шелковое, в зависимости от сезона. Уходя от бабушки, она надевала свое: ситцевое, штапельное или фланелевое – обратное превращение в дворовую девчонку.
Кстати, другая мамина бабушка для меня оставалась фигурой умолчания, хотя жила в той же квартире, где и мама, и, казалось бы, должна была стать бабушкой номер один, которая следит за ребенком, пока родители на работе: встречает после школы, кормит, выпускает гулять во двор и все такое прочее. Но этими воспоминаниями мама никогда не делилась. Отделывалась туманной фразой: «Моя бабушка Маня всегда ходила с прямой спиной». Правда открылась мне только нынешним летом. До революции бабушка Маня была единственной и всевластной владелицей знаменитых в те годы Рябининских мануфактур, на которых производили ткани. Пролетарских вил восставших рабочих она – с четырьмя сыновьями – избежала, догадавшись бросить все и уехать в Ленинград (тогда еще Петербург), где полномочные представители этих самых рабочих, только в сталинских голубых погонах, рано или поздно все равно бы их всех доконали. Но бабушка Маня приняла второе судьбоносное решение. Уж как она всё объяснила сыновьям – не ведаю, но, по свидетельству мамы, взяла с каждого из них честное слово, что они даже мечтать не посмеют о высшем образовании, а отправятся прямиком на завод. Причем самыми что ни на есть рабочими. Метод социальной мимикрии сработал. Но с этих пор баба Маня замкнулась в себе и редко покидала свою комнату – видно, боялась выдать себя негнущейся спиной.
Мамина «царская жизнь» прервалась в первую блокадную зиму, когда бабушке пришлось переехать к дочери на Первую Красноармейскую, потому что на Международном было нечем топить. А на Первой Красноармейской дрова были: в июле, дня за два до ухода на фронт, мамин отец увидел на улице машину с дровами и вдруг, непонятно почему, купил – хотя обычно дровами запасались осенью, а до осени война уж точно должна закончиться, так обещало радио (телевизоров в те времена не было, иначе обещания давал бы телевизор). Зимой они голодали, но не холодали. Мама всегда говорила: «Без дров мы бы все умерли». Деда я никогда не видела, но знаю: если бы не его дрова, я бы не родилась. Ближе к весне, хотя снег еще лежал замерзшими горбылями, бабушка, собравшись с силами и на всякий случай взяв с собой маму, отправилась навестить своих соседок и нашла их мертвыми – всех троих.
Подробности этих историй я узнала много позже. В детстве же перебивалась обрывками бабушкиной и маминой памяти, всплывавшими в их разговорах за утренним чаем, когда они, наряду с дневными планами: что купить, что сготовить, – вспоминали то довоенную жизнь, то войну, то эвакуацию. Меня кормили завтраком раньше и на этот ежеутренний «ten o’clock» не приглашали. Более того, если мама вдруг замечала мое навостренное ухо – другое плотно приникало к тряпочке, закрывавшей черную дырку радио, откуда лилась детская передача, – она решительно прекращала опасный разговор, в который то и дело вторгалось царское время. Но кое-что я все равно услышала и запомнила. Как запомнила обрывки маминых воспоминаний про эвакуацию, про уральскую девочку, ее подружку по местной школе. Выполняя пионерское поручение, мама помогала ей с уроками и однажды случайно пришла раньше, семья как раз обедала. Ее попросили обождать в прихожей или как там у них на Урале называется, и мама сидела, собравшись с силами, боясь упасть в голодный обморок – так пахло разной вкусной едой. Даже мясом, о котором они давным-давно забыли. Потом она уже знала, следила за временем, приходила позже. «А почему ты не попросила? Хотя бы кусочек, половинку шанежки». Про запах этих чертовых шанежек, свежих, прямо из печки, мама и через много лет рассказывала так, что я исходила горькой слюной. Что же чувствовала она, десятилетняя, в ту первую уральскую зиму, когда они, если сравнить с Ленинградом, не голодали, но подголадывали – слово, до сих пор вызывающее тревожный спазм в моем никогда не голодавшем желудке. Мама ответила: «В блокаду мы выучили твердо: еду просить нельзя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу