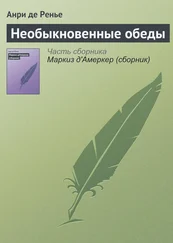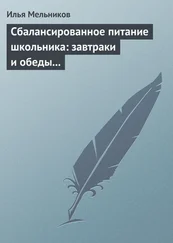В решающий момент выхода в святилище падре, будто что-то вспомнив, обернулся к Танкредо. «Я не буду читать Евангелие», прошептал он, «Прочтете вы. Думаю, вы помните, какой сегодня день». В фимиаме ароматических свечей, в шорохе почтительно встающих прихожан, падре торжественно прошествовал к белому, словно парящему в тумане алтарю. Он преклонил одно колено, широко, как крылья, раскинул руки и надолго припал поцелуем к середине алтаря, сияя вышитым на спине хитона золотым крестом; затем величественно поднялся на ноги, оглядел обращенные к нему лица и начал мессу; странное начало, с тревогой подумал Танкредо: осенив себя крестом и поприветствовав паству во имя Отца и Сына и Святого Духа, перед обрядом покаяния, падре назвал собравшихся не «возлюбленными братьями и сестрами», а «любящими».
Вскоре горбун отвлекся, потому что незадолго до того, как встать у алтаря, заметил глаза Сабины, следившие за ним из ризницы. Теперь она так и будет следить за ним до конца мессы, до тех пор, пока не уйдет падре Матаморос. А потом кинется к нему и добьется своего, если только он не окружит себя жалким щитом из Лилий.
Месса падре Сан Хосе оказалась не тихой мессой.
К удивлению и восторгу вечерних прихожан она оказалась петой. Кто бы мог подумать, что падре Матаморос не только принесет в алтарь собственную воду, но и великолепно споет мессу? Под холодными сводами церкви его голос лился, словно с небес. Он повторил призыв к покаянию, но на этот раз распевом: Любящие братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить Святое Таинство. Казалось, в церкви зазвучал орган. Танкредо поднял глаза к мраморному куполу и отрешенно смотрел на стайку ангелов, порхавших меж нарисованных облаков, замечая, что они тоже смотрят на него, и не мог понять, какие чувства испытывает: испуг или умиление. Как же давно, думал он, мы не пели мессу. Прихожане вдыхали чистоту поющего голоса. Они еще ничего не успели понять, а голос уже пел. Конечно, никто не осмелился спеть в ответ, все просто произнесли: «Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, любящие братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга», произнесли робко, как агнцы, и били себя в грудь, шепча в унисон «моя вина, моя вина, моя великая вина», и удары эти прозвучали, как звуки неземных барабанов, и воодушевили их, и возвысили в собственных глазах, словно позволив им вдруг осознать, что тела могут звучать и петь, и они просили «Блаженную Приснодеву Марию, всех ангелов и святых и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу нашему»… Наступила полнейшая тишина, и падре Матаморос пропел: «Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной», и все как один отважились спеть в ответ: Аминь.
На первом ряду (они неизменно посещали первую и последнюю мессы) сидели три Лилии, все три такие разные, но такие похожие, объединенные одним именем еще в ту пору, когда начали прислуживать падре Альмиде, старые и в трауре, второй раз за день одетые в лучшую одежду, все три в опрятных затейливых шляпах с вуалями, с требниками на коленях, в лаковых туфлях, но с провонявшими луком руками, привкусом каждого приготовленного блюда во рту, с отблеском печного огня в глазах, уставшие резать мясо и чеснок, выжимать лимоны и готовить еду до полной потери аппетита. Но в этот вечер их глаза увлажнились не от лукового сока или проткнутой ножом редьки, а от священной субстанции, которая наполнила их слух, коснулась душ и, в конце концов, заставила молча плакать. Три Лилии улыбались, как одна. Они островком сидели среди прихожан, уже знакомых с их запахом и предпочитавших оставлять им целую лавку, без соседей сзади и по бокам — привилегия или изоляция, которую сами Лилии в своем почти детском простодушии считали благоговейным почтением к женщинам, заботящимся о падре Альмиде, его обедах, его незапятнанной душе и его чистой рубашке.
Затаившаяся в ризнице Сабина тоже всем сердцем приняла участие в этом неожиданном пении. Пришлый священник заставил ее забыть на несколько прекрасных мгновений о том, что они с Танкредо останутся в приходе одни, без Альмиды и Мачадо; она видела могучую спину, острый горб Танкредо, его запрокинутую голову, и в то же время не видела его, не замечала, потому что ее слухом полностью завладел падре Сан Хосе, призывавший верующих к покаянию. Пение, в первые минуты едва не заставившее всех растерянно рассмеяться, теперь вызывало у людей слезы радости. Когда дело дошло до Вступительной молитвы, прихожане запели, прося у Господа милости, Иисусе Христе, помилуй нас, Господи Боже, помилуй нас, и почувствовали, что воспаряют вместе с гимном «Слава в вышних Богу», который Матаморос спел следом за ними один и на латыни. Раскрасневшись, они внимали его пению: «Gloria in excélsis Deo et in terra pax hominibus bonae volutatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te glorificamus te…» [4] «Слава в вышних Богу и на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя…» (лат.).
, и в конце молитвы все смело пропели полное энтузиазма «Аминь», нежно тронувшее стены, прикоснувшееся к каждой точке пространства от алтаря до входной двери.
Читать дальше