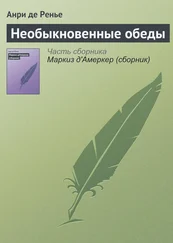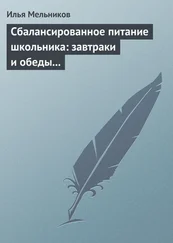— Этого не может быть, — Альмида взял трубку. Похожая на альбиноску Сабина Крус казалась рядом с ним еще одной безликой Лилией. Прогремел гром, череда вспышек озарила сад синими сполохами.
— Падре Байестерос, — начал Альмида, — я впервые прошу помощи у другого священника. У меня очень срочная встреча, неотложная, от нее зависит благополучие всего прихода, и меня заверили, что вы согласны. Ведь я трижды служил за вас воскресную мессу.
Наступила тишина, все ждали. Байестерос, по всей видимости, оправдывался, но голоса его не было слышно; Танкредо с дьяконом использовали паузы в телефонном разговоре для того, чтобы демонстрировать друг другу свою неприязнь. Их взгляды сталкивались, когда Альмида начинал говорить полным отчаяния голосом, и снова обращались к падре, когда он умолкал, сжимая трубку, как утопающий.
— Но он тоже не приехал, — говорил падре. — И, насколько я его знаю, он может год сюда добираться, вы меня слышите?
Снова наступила тишина. И тут, проследив за взглядом падре Альмиды, все повернули головы к двери. На пороге стоял, дожидаясь конца телефонного разговора, мокрый до костей священник, рядом с ним — Лилия. Достопочтенный падре Хуан Пабло Альмида медленно положил трубку. Он с трудом перевел дух.
— Падре Матаморос, — воскликнул он. — Добрый, добрый вечер! Воистину вас послал мне Бог!
II
Эта ночь заслонила собой все ночи, которые помнил Танкредо, особая, разрушительная ночь, ставшая началом или, может быть, концом его жизни, агонией или воскрешением — одному Богу известно. Эта величественная ночь своими страстями и необычными событиями превзошла даже ту первую ночь, когда после нескольких лет невинного флирта они с Сабиной забрели в один из закоулков двора и час за часом предавались греху до самого рассвета, словно стремясь наверстать сто лет упущенного времени.
Графин с настойкой все еще стоял на столе, когда Альмида и Мачадо под дождем пробежали по двору, чтобы сесть в «фольксваген». Их сопровождали Лилии, вооруженные огромными зонтами. Казалось, два главных приходских церковнослужителя спасаются бегством: пригнув головы в защитных куполах зонтов, кутаясь в темную одежду, они бежали навстречу неведомой судьбе.
Падре Матаморос, нежданный заместитель Альмиды, все еще стоял в кабинете; увидев, что Танкредо возвращается, он устало сел на ближайший стул; «У моей набожной глотки еще есть пять минут», сказал он; «Дайте мне вот этого», падре показал на графин; «Это что?», уточнил он; «А! Ореховая настойка. Чересчур сладкая». К изумлению вошедшей Сабины, он влил в себя весь остаток двадцатипятиградусного (по скромной оценке Альмиды) напитка, предварительно выплеснув его в чью-то чашку из-под кофе; черные, глубоко посаженные глазки падре на секунду вспыхнули. «Помогает от холода», сказал он, потирая руки.
Человек неопределенного возраста, падре Матаморос, достопочтенный падре Сан Хосе Матаморос дель Паласио, действительно выглядел редкой птицей, серенькой и общипанной, прилетевшей Бог весть откуда. Одетый в темную мешковину, он использовал вместо круглого воротничка ворот серого свитера, носил чересчур большую, словно с чужого плеча, куртку, облезлые, почти черные ученические ботинки с закругленными носами, стоптанными подошвами и белыми шнурками и квадратные очки, в которых одно стекло треснуло пополам и одна дужка держалась на куске грязного пластыря.
Покончив с настойкой, падре побежал вслед за Танкредо в ризницу (дождь лил все сильней, наполняя сточные канавы в саду и подтопляя выложенную камнем дорожку); отдышавшись в ризнице, Матаморос внимательно огляделся, подолгу задерживая взгляд на картинах религиозного сюжета. Перед Мадонной Боттичелли падре перекрестился и, совершенно зачарованный, помолился ей одними глазами; Танкредо использовал эту заминку, чтобы найти полотенце и вытереть падре лицо, волосы, мокрые руки и птичью шею. Матаморос не сопротивлялся, но не отводил глаз от милосердной Мадонны Магнификат. Наконец он вздохнул и, сам себе кивая, еще раз осмотрелся вокруг. Ироничный взгляд падре задержался на столике с допотопным черным телефоном. Его заинтересовал этот дальний угол, где помимо телефона стоял простой стул, окруженный неприкаянными гипсовыми ангелами, богородицами и святыми — все это разбитое войско, безносое и безрукое, с отвалившимися или выцветшими крыльями, с пустыми глазами и исцарапанными лицами, отломанными и треснувшими пальцами, все это странное сборище ожидало, видимо, отправки к мастеру-воскресителю или на помойку. Падре улыбнулся. «Телефон для связи с Богом», сказал он. Потом вынул из кармана крошечную желтую расческу и пригладил взъерошенную шевелюру, приспособив в качестве зеркала гигантскую золотую дарохранительницу, которую Альмида почему-то никогда не использовал во время мессы. Из того же кармана падре достал пузырек с полосканием для рта и, погоняв его содержимое во рту, бестрепетно сплюнул в дарохранительницу, от чего Танкредо залился краской. «Это надо помыть», сказал падре и только теперь пристально, как хищная птица, посмотрел на Танкредо. «Ведь вы мой аколит, верно?», спросил он, оглядев, конечно, горб. И благодушно улыбнулся. «Поставьте это на алтарь», попросил он. Падре протянул Танкредо блестящий узорчатый кувшинчик с водой. «В нем я развожу вино», сказал он и, глядя на бронзовое распятие, словно пояснил Всевышнему: «Во время мессы я предпочитаю пить собственную воду». Он позволил Танкредо помочь себе с облачением, но не сводил горящих глаз с горбатого аколита, с его заостренного горба, откровенно осмотрев его снизу доверху. «Еще один храм», сказал он, указав на горб.
Читать дальше