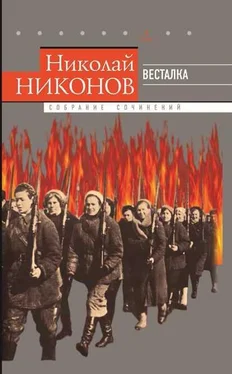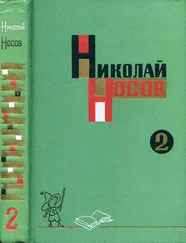Ты калина, ты калина,
Ты калина-ягода.
Ты почто, моя калина,
Не целуешь никогда..
Смерть — изломанные, обсеченные, выдернутые деревья, чей-то черный, безжизненный сад, стена, где дырой сияет изумленное небо, печи — долгошеие идолы — безмолвный кошмар былого жилья, серые фигурки, иногда мечущиеся и пропадающие — ТАМ, запах дыма, сгорелого хлеба, сгорелой земли, стали, взрывчатки, острый в проникающей химической кислоте, отравно-ненужный, ненужно-предупреждающий, смерть — громы и сполохи то в правой, то в левой стороне, ни дать ни взять — дальняя гроза, глазами ищешь, предугадываешь тучу, опомнившись, начинаешь понимать, никакая там не гроза — это смерть, ее голос чудится даже в скрипении губных гармошек, в отдельных криках чужой речи, особенно по вечерам и когда ветер дует с запада. Дует с запада…
Пока на передовой затишье — «бои местного значения», то просто изнуряющая, с подлым однообразием, рассчитанной злобностью перестрелка. Начинают почти всегда немцы и почти всегда перед тем, как уснуть, когда клонит и валит в сон. Вдруг загрохочут пулеметы — издалека, не видать. Завизжит, ахнет, свистнет настильным осколком одна-другая мина, задудит крупнокалиберный, прошивая ночной закат строчками зеленожелтых пуль. Ракеты повиснут: одна, другая — ядовитый, мертвецкий, капающий свет. Громыхнет артиллерия с закрытых позиций, и снарядный шелест, пригибающий этот шорох, перекроется громким ночным взрывом. Часам к двенадцати обстрел гаснет — немцам пора спать. Концерт окончен часов до восьми, хоть мы иногда их «будим» в отместку и, бывает, «будят» нас. Иногда же на передовой вообще виснет томящая, отвратительная тишина. Странно даже писать так о тишине, а бывает именно отвратительная, выворачивающая душу. От такой тишины, как и от грохота, можно сойти с ума, и сходили — бывали случаи. Нервы напряжены, уши устали от ожидания, ломит виски и скулы, где-то внутри, повыше желудка, копится, рождает тошнотную слюну шерстяной ком, кажется, еще немного — и что-то лопнет в тебе, порвется, иных, особенно из пополнения, тошнило пустой, выворачивающей изнанку рвотой. В таких случаях надо отвлекаться, смотреть, как бегают жуки, как устроены травинки, начать обустраивать окоп, пожевать что-нибудь, хоть соломинку, постараться уйти в себя, в воспоминания, если удастся, даже можно читать, иные для этого только таскали замученные грязные книжки. Читаешь, не соображая, читаешь, чтобы отвлечься, забыть тянущую душу тишину. Странно, что даже выстрелы с той ли, с этой ли стороны давали облегчение — иногда для этого только и стреляли.
Раненых в период затишья почти нет — кого-то ушибло камнем, кого-то оглушило, насыпало в глаза и в уши земли, — зато есть убитые. Стреляют снайперы. Зовут их «кукушками», видимо, еще с финской, никто из снайперов не «кукует», и где они — непонятно, — увидеть снайпера, залегшего где-нибудь на огневой с ночи, а то и чуть не за километр от наших окопов, мудрено. Едва я появилась в роте, как при мне убили командира первого взвода, молоденького парня со странной фамилией Немых. Он был даже в каске, но снайпер попал ему в голову точно ниже края. Кто-то охал, кто-то сокрушался, кто-то просто молчал, и кто-то даже ляпнул утешающе: «Легкая смерть», а смерть была глупая — хуже некуда, не в бою, не в атаке, не под бомбами, хотя и тогда, что об этом… Немых убили, когда он встал помочиться, не мог делать этого на коленях, а был высокого роста… БЫЛ. Я не могла глядеть. Без каски он лежал абсолютно спокойный, даже с подобием легкой улыбки, точно спал и во сне решал какую-то несложную задачку. Вот нашел уже и решил, сложил все в уме. Теперь только записать… Без каски, даже в шинели, не походил на военного, тем более на командира… Тонкая шея из жесткого ворота, не по ногам сапоги. Вспомнила, как в нашей школе — господи, как давно! До войны! — играли пьесу, и мальчишки там, на фанерной сцене, одетые в отцовские гимнастерки и шинели, изображали бой. За сценой кто-то старательно грохотал по железному листу. Мальчишки были вот такие точно, как этот Немых, которому теперь уже никто не мог помочь, не могла и я, хотя суетилась, вытащила пакет, бинт, пыталась щупать пульс.
— Батальонный идет! Комбат! — раздались голоса.
В траншее появился комбат, которого я еще и не видела: когда прибыла, его вызывали куда-то в штаб. Мое удивление было велико, я, наверное, стояла, раскрыв рот, вытаращив глаза: командиром нашего батальона оказался тот самый капитан, что командовал прицепленным эшелоном, только теперь он был не в фуражке с синим верхом, а в каске, отчего лицо его стало еще более резким, военным, морщины в краях щек и рта казались черными, проведенными тушью, а глаза будто еще более пожелтели или побелели, и я подумала: какие страшные, бешеные, птичьи они — глаза не знающих пощады больших хищных птиц.
Читать дальше