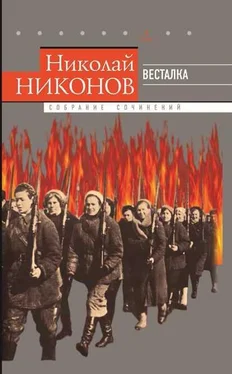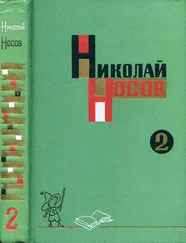— Давай ешь… А то отрастила мордашку и враз оголодаешь. Ешь вот, — отрезала большой неровный ломоть колбасы, вывернула из банки на сухарь. — Грызи! У тебя зубы-то, куда мне. Я их все на сладком проела… Да в окружении когда была… Всего я, Лидуха, нанюхалась. А мужиков особенно… Будь они прокляты. Такая же вот, как ты, когда-то была… булочка… Ну, чего смотришь? Ешь… Ты мне всегда нравилась. Эх, запить нечем. А колбаса на большой! Мировая… Чуешь, пахнет как? Чикаго. «Второй фронт» ее зовут. Не открывают, сволочи. Тушенкой отделываются. Самих бы их… — она не закончила. Ела не жадно. Кривилась от боли. И теперь мне понравилась. Сквозь обычную ее грубость просвечивало словно что-то иное, жалкое, перебитое, не красила ее и новая мужская стрижка. Заметила я, что Зина снаряжена по-фронтовому, в ватных брюках. Поев, она вытащила пачку «Красной звезды», трофейную зажигалку-щелкушку, закурила и протянула пачку мне.
— Не курю я..
— Чо, правда, что ли?
— Не курю, спасибо.
— Ну, ты да-ешь, мура… На передовую едет и не курит.
— И не пробовала. Никогда не пробовала. Не хочу.
— Хм? За-бавно… — сказала она, затягиваясь до ям на впалых, пожелтелых щеках, играя бровью. — Забавная ты, Одинцова… Трудно тебе будет. Булочка пшеничная… Ишь вот, в юбочке едешь. У тебя там, поди, и панталончики с кружевами? — говоря это, она вдруг бесстыдно дернула меня за юбку и захохотала, закашлялась так, что из папиросы летели искры.
Я смутилась и отодвинулась от нее.
— Ну, милая! Ну, мордашка. Ну, чо ты? — кашляла Лобаева. — Я же шутя, подруга. Ты на меня не обижайся..
Она придвинулась ко мне и, швырнув папиросу за борт, проследив за ее полетом, все еще дыша табаком, забормотала:
— Ох, я рада тебе, знаешь. Как родню встретила. А то я, знаешь, измучилась. Я ведь детдомовка… В детдоме воспитывалась… И в колонии была… А-а… Долго… Объяснять не хочу… Знаешь — измучилась… Как собака бездомная… И все-то всем от меня надо… Б..! Надо… Надо! Устала. Темнеет вот. Давай поспим. Дорога еще… Далеко. А мужиков я ненавижу… Ненавижу… Прости меня..
Через мгновение она уже спала. Ушанка опять съехала у нее с головы, и лицо Лобаевой, похуделое, желтовато-бледное, в сумерках показалось мне еще более усталым и несчастным. Повязка делала его еще и странно детским, беспризорным. Я придвинулась к ней, обняла, кое-как приспособила шапку. Лобаева спала обморочным фронтовым сном, видно, намучилась с зубами. Было в ней теперь что-то будто изломанное, искалеченное и несчастное, как бы истоптанное, и опять я с острой болью внезапного осознания или прозрения подумала: да должна ли женщина быть на войне, и вообще, что такое война? Зачем человечество, столь разумное, тем будто бы и отличающееся от неразумного животного мира, без конца и без края ведет войны… Наш учитель истории Владимир Борисович Мошков говорил на уроках, что человечество и дня не прожило без войны. Войны уходят в самую глубь истории, в то, что невнятно отделено как бы минусовым знаком и считается вглубь. Были Цезари и Помпеи, Александры и Филиппы, Ксерксы, Митридаты и Дарий, Рамзесы и Хуфу. Были всякие там псы-рыцари, крестоносцы, монголы, гунны. И вот миновала еще тысяча лет, а машина трясется, мчит нас навстречу опять каким-то «псам». И почему одним народам словно судьбой даровано вечное право нападать, другим — вечное право защищаться и восстанавливать зыбкие весы справедливости… Не так, наверное, я думала тогда, на фронтовой дороге в степи, ночью, под рокот пролетающих над нами самолетов. Это были, к счастью, уже наши, хотя и теперь все в душе напрягалось, уши ждали волновой гул бомбардировщика, мерный вой истребителей. Нет. Сейчас над дорогой пролетали У-2 — «ночные бомбардировщики». Я их хорошо знала, двукрылые, допотопного вида самолетики, равномерно стрекочущие, знала, что немцы зовут их презрительно «рус-фанер», не знала только, что на этих самолетах могли быть летчиками девчонки вроде меня.
Много я передумала в эту полубессонную ночь по дороге на передовую. Теперь я еще приблизилась к войне, но передовая не пугала меня. Мне думалось, после пережитых бомбежек, сгоревшего эшелона вряд ли может быть что-то более страшное. И под утро я тоже уснула.
Я на передовой. Так называется вправо и влево убегающая полоса траншей, окопов, ям, землянок, ходов сообщения. Земля и грязь, трава, засыпанная глиной, исполосованная, исковерканная, задымленная земля, в которой прячется жизнь и смерть. Жизнь — это все, что может укрыться тут, окопаться, зарыться, спрятаться под защиту брустверов и накатов, лечь на дно в жидкую, измешенную сапогами грязь, незаметно проскочить, вечно пригибаясь в полусогнуто-настороженном движении, с ознобом в спине. Смерть — это то, что в любой момент, а чаще неожиданно может заполоскать бледным, блекучим грохочущим огоньком из таких же бугров, прилететь с живым или потусторонним визгом и калечить той же землей, камнями, осколками, может и прочирикать птичкой-невидимкой «фить-вить» — слава богу, мимо… Жизнь — это травка, которая всходит зеленым плотным засевом по израненным смертью буграм и на братских могилах под первым дождем, под апрельским хмелевым солнцем. Жизнь — жаворонок, невесть откуда он взялся, набирает высоту с довольным говорливым пением и с мяуканьем спускается то к нам, то к немцам, на ничейной полосе и на минном поле, безбоязно и бестрепетно. Жизнь — долгоногие зеленого и черноватого цвета жуки, хлопочущие взад и вперед по своим, неведомым людям делам. Жизнь — солнце, такое прекрасное, мерзло-розовое, в росе и в тумане по утрам, свежее, птичье, ничье. Воздух без гари, мерцающие ночами звезды — здесь, в степи, в оврагах и балках, они кажутся крупнее и ярче, живее и ближе. Жизнь — голоса солдат из землянок, даже треньканье на грошовой балалайке:
Читать дальше