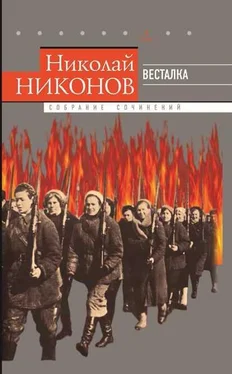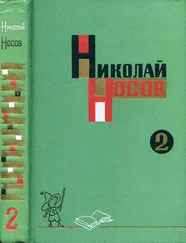Я еще не умела бодрствовать ночью. Ночью я по-детски хотела спать, а здесь все время надо быть на ногах: поить, подать судно, помочь кому-то, у кого раны начинают вдруг кровоточить, помочь сесть, помочь лечь. Днем, когда я уходила домой, сон не шел, и я редко спала днем больше двух-трех часов — зато в палате он наваливался своей оглушающей, магнитнонеподдающейся воле силой. Я засыпала сидя, иногда на ходу, меня бросало на стены, а бывало, засыпала у своего столика и один раз даже свалилась со стула. Стоило мне сесть, я просто «отключалась» и через какое-то мгновение обнаруживала, что лежу головой на столе. Во сне я часто видела отца, говорила с ним, радовалась, что он пришел, жив, со мной, с нами. Это и было самое полное осязание счастья. Я радовалась, а мать плакала сквозь улыбку — она умела беззвучно странно-улыбчиво плакать и казалась тогда особенно красивой. Во сне я думала: «Как же так, вот его нет, и мы знаем, наверное, он убит, погиб, хотя и надеемся на что-то. Эту последнюю надежду мы обе боялись потерять. А отец вот он, приехал или словно вообще никуда не уезжал, а был где-то здесь, как в соседней комнате, а мы не знали этого, переживали и мучались. Он говорит с нами и смеется».
Я хотела побыть с ним дольше, но кто-то жестким, крикливым голосом звал меня, даже кричал, называя по фамилии: «Одинцова! Одинцова!»
Просыпалась, вскакивала. Передо мной стоял сам начальник госпиталя Иосиф Мартынович и, грозно глядя сквозь большие очки, поджимал нижнюю презрительную губу.
На следующий день на черной доске приказов в вестибюле мне вывешивался выговор. А секретарша начальника, кругловатая женщина, ходившая как-то странно, как может ходить коза, встав на задние копыта, знакомила меня с приказом под расписку и так же, как начальник, кривя губы, говорила, что меня скоро придется отправить в штрафную часть на фронт.
Смены мои с Валей совпадали редко, но скоро мы опять стали встречаться чаще, когда я дежурила днем. Валю перевели в диетсестры, потому что она уже в третий раз упала в обморок на перевязке. Ох уж эти Валины обмороки! Кто бы знал, как отлично умела она их разыгрывать, еще когда мы учились в школе. Надо укол, например, ставить — это еще в первом классе, во втором — или не знает урок — спросят, и Валя, вдруг побелев, шатаясь, молча выходит из-за парты, с замороженным взглядом идет вдоль стены, трогает дверь, будто слепая, и не может найти выход, учительница бросается к ней, класс замирает, Валю выводят в коридор. Минут через пятнадцать она возвращается с улыбкой мученицы, томная и страдающая. Она могла так разыграть кого угодно и, кажется, сама верила в свои обмороки. А иногда смеялась и говорила мне по секрету: «Ловко я вывернулась? Ха-ха… Ну и дураки… А ведь все поверили, даже ты..» И предупреждала: «Смотри, Лидка, никому! Я ведь правда плохо себя почувствовала. Да-да! — И кивала с убежденностью в лукавых карих глазах. — Да-да!»
Такая она была. Но было в ней и много-много хорошего: нежадная, участливая, могла помочь, когда и не просили, плакала вместе со мной, старалась утешить, была она очень способна и легко решала любые самые трудные задачи по алгебре, по физике, свои и мои, дома у Вали были хорошие книги, и она всегда давала мне их читать, она умела кроить и шить и еще приносила в школу тайком толстые книги «Половой вопрос» и «Что надо знать, чтобы стать счастливыми в супружеской жизни». Книги она приносила мальчишкам, я стыдилась их даже открывать. Валя хохотала надо мной, звала «весталкой». И наконец, Валя была красавица, настоящая красавица — это признавали все: ученики, одноклассники, учителя, даже директор школы Игорь Корнилович, строгий мужчина с орденом Красного Знамени за Гражданскую войну.
Валю любили за красоту, за ум, за веселость, за то, что она нежадная, и любили как-то особенно — снизу вверх, как любят и обожают королев. Она и была такая школьная королева красоты. И здесь, в госпитале, она словно еще ярче расцвела, халат и шапочка шли ей удивительно, подчеркивали и оттеняли ее матово-нежный, яблочного тона румянец, спелую полноту губ, ясность взгляда. Не девушка — малина, а то и вишня в самом спелом июльском соку. Даже фамилия ее — Вишнякова — была ей как раз впору. И в госпитале, как по праву первенства, она заняла трон красавицы, ей приветливо улыбались самые суровые хирурги, начмед Оганесян, южного типа синеволосый мужчина, и тощий комиссар Дашевич, и сам начальник госпиталя Неверов — все, кроме разве секретарши начальника Нины Тарасовны, чувствовавшей, как видно, в Вале превосходящего противника.
Читать дальше