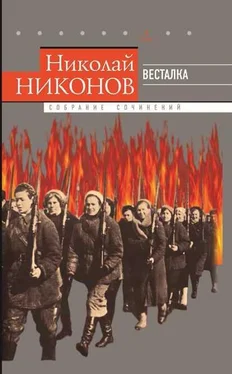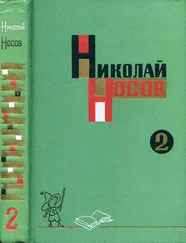К осени в городе ввели лимит на электричество. Свет зажигался на час-полтора. В ход вошли керосиновые коптилки из одеколонных пузырьков, плоские фанерные спички с красными головками, а то и просто обходились без спичек, для этого служил белый камень кварц и обломок стального напильника, которым высекали искру на обожженный, свернутый в виде кишки ватно-марлевый «трут». Нам же объявили, что вместо года учиться мы будем шесть месяцев вместе с практикой, получим свидетельство медсестры, а потом, когда аттестуют, звание сержанта медицинской службы. Кто-то говорил даже, должны дать лейтенантов. Звания звучали торжественно — «сержант», «лейтенант», хотя я их тогда никак не различала, они были для меня какими-то одинаковыми, не все равно… Но уже через день нас рассовали по госпиталям и ученье как-то само собой словно бы кончилось, потому что вместе с Валей мы стали ходить на службу по тихой ветхозаветной улице, где стояла за углом, возвышаясь над серым и коричневым одноэтажьем старых домишек, желтая четырехэтажная школа-десятилетка — теперь эвакогоспиталь 3679.
Школу только что обнесли высоким некрашеным забором, во дворе горами лежали парты, окна еще будто грустили по ребячьим голосам, шуму и звонкам, но в заборе уже стояла тюремного вида будка-проходная, сидел строгий инвалид с наганом, а нам выдали картонные пропуска, на которые надлежало срочно сфотографироваться.
Почему я так помню, как вместе с Валей мы пошли за этим важным делом в фотографию-моменталку у моста через Исеть? Тогда там стоял двухэтажный черный дом, очевидно купленный у прежних владельцев бойкими людьми, наспех превратившими его в фотографию. На фронтоне белая вывеска: «ФОТОАТЕЛЬЕ». Ниже заверение: «Сегодня снялись — а завтра готово!» Мы, по крайней мере я, еще никогда не фотографировались в «ателье», робко поднимались по высокой, однако с обычным жилым духом лестнице, пока не открыли обитую клеенкой дверь на втором этаже и попали в подобие прихожей, где принимала заказы женщина с беспокойным взглядом воровки, прячущей свое прошлое. Быстро оглядев нас, прикинув что-то свое, она выписала квитанции, сунула деньги в кованный железом сундук и турнула нас в комнату с окнами-решеткой. Лысый, барсучьего вида мужчина, в подтяжках, быстро усадил нас обеих на один стул перед сургучного цвета ящиком на треноге. Помню, что сбоку ящика свисал шнур с приспособленной к нему резиновой клизмой. Обстоятельство нас рассмешило, и мы никак не могли унять смех, а мужчина, сердито поглядывая и покрикивая, все приказывал глядеть куда-то выше ящика; передвинул какую-то рамку, сунул-спрятал лысую голову под черное покрывало и, назойливо призывая нас к вниманию, щелкая пальцами, в конце концов нажал на клизму.
— Зайдите через неделю, — сказала женщина-воровка.
— Но… У вас же там написано — «завтра готово…»
— Мало что написано! Бумаги нет… — тявкнула она.
Ушли скрипучей, холодной, перекошенной лестницей. Карточки получили через месяц; на них ужасно: две дурочки с вытаращенными глазами. Подавая продукцию, мастер тут же расстриг нас ножницами. Процедура была противная — ножницы хрупнули, и мы навсегда оказались по обе стороны от их лезвий, справа и слева. Сколько раз потом я вспоминала ножницы лысого барсука.
Нас назначили младшими палатными сестрами — нечто вроде нянечек-сиделок, — пока еще без званий, без обмундирования и довольствия. Мы именовались «вольнонаемные» — такое казенное слово. В этой школе мы когда-то учились с Валей классе в пятом, шестом, помню, от дома было далеко, не по району, и все-таки где-то наша парта лежала теперь в огромной груде парт и столов, не свезенных со двора. На дверях тоже еще висели таблички: «Завуч», «Учительская» и номера классов, которые стали теперь номерами палат. И все еще стоял в коридоре крашенный белилами гипс: Сталин с пионерами. Но классы, где синели чернильные кляксы, висели неснятые доски, уже густо были заставлены кроватями, а госпиталь быстро заполнялся ранеными. Это слово, в общем-то странное и трагическое еще месяцы назад, теперь прочно вошло в обиход, превращалось в обычное существительное, хотя по форме полагалось называть этих красноармейцев еще хуже, казеннее — «ранбольной», но мы меж собой, в обиходе, всегда звали их просто — «раненые».
Госпиталь был «тяжелый», может быть, потому, что помещался вблизи вокзала и в первую очередь к нам направляли самых нетранспортабельных. Обычно приемка была вечером или ночами, тогда весь госпитальный состав — в приказе он назывался «персонал» — делился на тех, кто ехал принимать раненых с товарной площадки, куда прибывали санитарные поезда, и тех, кто выгружал раненых во дворе из машин и подвод, принимал, обрабатывал, мыл, тащил носилки по этажам, размещал по палатам. В такие приемные дни или ночи работали все, включая хозяйственников, финчасть, вахтеров, всегда был на месте и сам начальник госпиталя майор медицинской службы Неверов, и комиссар, капитан Дашевич, тощий мужчина с длинным лицом, впалыми глазами и нескончаемым лбом, он походил на виданную мной где-то гравюру — шведский король Карл Двенадцатый, — про себя я его так и звала.
Читать дальше