Вон сидит она — пятьдесят лет тягот, страданий и покорности, вся — воплощенное чувство долга и самоотречения, сухая, серая и безответная, как земля у нас под ногами. Тело, которое могло стать источником жизни тысяч будущих поколений, выглядело тощим и непривлекательным. Она недалеко ушла от обезьяны, которая еще совсем недавно обитала на дереве: низкий лоб нависает над водянистыми глазками, широкие скулы и крепкие зубы, низкая, узкая грудь и большой, тяжелый живот. Извечная женщина, праматерь, дикая и страдающая, как повелось от сотворения мира.
Ирис оглядела себя. Изящная и легкая, она лучилась здоровьем, жизненной силой. Чуть помятый летний костюм был ей свободен. Когда она сидела, прохладные складки юбки дважды обертывались вокруг ног, обнажая стройные ножки в шелковых чулках. Вырез был глубокий, поэтому ничто не стесняло ее грудь, из разлохматившихся волос свисали увядшие цветки.
И в одежде, и в ее самоощущении была сегодня какая-то раскованность и открытость. Она освободилась от истомы и в своей чуткой расслабленности ощущала, как струится по жилам кровь. За последнее время она пополнела, и это ощущение здоровья невзначай проступало во всем ее облике.
И в то же время она испытывала чувство стыда и беспомощности. Она понимала, что при всей своей доброте эта старая женщина все-таки осуждает ее. Так бесконечно далеко они были друг другу! Никогда не понять ее этой матери, давшей жизнь семерым детям. И никакими силами не объяснишь ей, как несправедлива она к Ирис.
Ирис еще ниже опустила голову, коснулась рукой волос, нащупала цветок и стала медленно водить им по воздуху. Прохладный ветерок от двери мягко перебирал короткие волосы на затылке, холодил горячую шею. А за спиной вставала черная летняя ночь. В густом воздухе еле слышно шелестели листочки осин.
Картофелины с плеском попа́дали в котел с водой. Зашипели в огне брызги. Горестная фигура Евы растворилась в дыму за крутящимися языками пламени. И только топотанье ее босых ног доносилось из темноты.
Тем временем из бани прибыло все семейство: сам батрак, двое сыновей и две дочери, все красные, как раки, с сияющими чистотой лицами. Топоча вбежали дети, только ноги замелькали в свете очага. Старшая из девочек подсела к огню, распустила мокрые волосы, похожие на пясть льна, и принялась их сушить. Капля пота блестела на ее вздернутом носике. Старик сидел в другой комнате и черной, как смоль, щеткой расчесывал голову. Ева сновала между кухней и комнатой с дымящимися мисками в костлявых руках.
Простившись, Ирис потихоньку вышла. Посреди двора она приостановилась, оглянулась — жар догоравших головешек подсвечивал дверной косяк — прислушалась к шелесту осиновой листвы. Потом повернула к даче.
А в батрацкой уже ели. Во главе стола сидел старик в чистой рубашке, расстегнутой до пупа, и седые волосы ниспадали на худые плечи. Молча, будто священнодействуя, он нарезал кривым ножом ломтики хлеба и оделял сидевших рядком детей. Их гладкие головки блестели в неверном свете плошки, с круглого фитиля которой вилась к потолку бурая ленточка дыма.
Старики с минуту посидели тихо, сложив руки, бесцельно глядя усталыми глазами в пространство, с суровыми складками вокруг губ. Дети в нетерпении ждали, каждый со своим куском хлеба в руке, и как только родители потянулись к еде, жадно вонзили в хлеб молодые зубы.
За едой разговаривали только отец с матерью, в основном говорила мать, отец только согласно сопел. Стоило заговорить кому-нибудь из детей, отец вскидывался:
— Замолчи! Молоко на губах не обсохло, а туда же, языком молоть!
Встав из-за стола, сразу улеглись спать. Долго еще скрипела детская кровать, в которой они лежали на соломе рядком, дергали друг друга за волосы, впивались ногтями один другому в ухо. Теперь и окрики раздавались устало и сонно. Отец сидел на краю постели, почесывая большим пальцем волосатую грудь, все его грузное тело дышало чистотой и предвкушением предстоящего отдыха. Потом, кряхтя и вздыхая, он улегся, а мать пристроилась рядом.
Вдруг она спохватилась:
— Кухонную-то дверь так и не заперли. Еще собаки залезут. Леэни, поди закрой!
Но Леэни уже спала.
— Кусти, поди ты.
— Я боюсь.
— Чего ты, дрянь такая, боишься?
— Привидения!
— Ох, уж эти твои выкрутасы! Придется самой идти.
Вздыхая и потирая тело жестким подолом рубашки, она тяжело спустилась на пол. Вскоре послышался скрип дверных петель и скрежет задвижки. Мягко ступая босыми ногами по глиняному полу, Ева вернулась в постель. Старик ждал ее.
Читать дальше

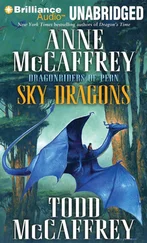




![Валерий Гуминский - Всадники Роха [Author.Today]](/books/409474/valerij-guminskij-vsadniki-roha-author-today-thumb.webp)
![Антон Перунов - Всадники. История Адама Борута [СИ]](/books/424127/anton-perunov-vsadniki-istoriya-adama-boruta-si-thumb.webp)



