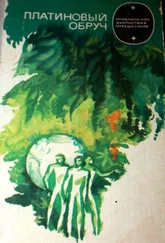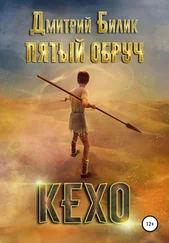3
— Э-хе-хе, заступничек небесный! Косточки-то как ноют! Старик, а старик! Довольно тебе на печи лежать! Слезай-ка да подкрепись чуточку. Мне и глядеть-то на еду неохота. Как бы живот не лопнул. Только одно на уме — на соломке отлежаться… Слез, что ли?.. Э-хе-хе, иногда она такая жесткая, эта солома! У тебя все тело гудит, а она, как назло, твердая-претвердая… Ты погляди на полке, там в платке копченая баранина, а в котомке яблоки… Ух и жадный народ! Взять хоть эту старуху с хутора Тару — навязала мне бараний окорок, нет того чтобы свиной!.. Или эта кяннувская хозяйка: сует тебе яблоки, будто сыт с них будешь!.. Э-хе-хе, силы небесные, ну и постель! И клопы уж тут как тут. Нет им, иродам, покоя ни днем, ни ночью… Ну и люди! Ты хлопочи за них, бегай, разговаривай, а чтоб они тебе заплатили, — господи боже мой! — так об этом и разговору нет… Ну, нашел? Вот дубовая голова, ничего сам не может!.. Э-хе-хе-хе, слава богу, одним днем к могиле ближе, ближе к могиле, ближе, э-хе-хе!
1903
Перевод Л. В. Тоома.
Люльку ставили мою на воле,
Между копен во широком поле.
И меня качали в ней кукушки,
Певчие баюкали пичужки.
Эстонская народная песня
Осиротел мальчик с пальчик, ягодка малая. Кому его по головке погладить, через порожек переправить? И отца схоронили, и матушку в земном лоне зарыли. Отзвенел колокол заупокойный.
Вытер дедушка глаза, осушила бабушка слезы.
— Каково тебе придется на белом свете, сиротке? — вздохнул дед.
— Кто тебе родную матушку заменит? — заохала бабушка.
А малыш таращился бессмысленно на обоих, и его большие синие глаза спрашивали: «Когда ж это моя матушка стала такой морщинистой? Когда ж это мой батюшка так поседел?»
Но они-то и были отцом с матерью, эта морщинистая старушка и этот седой дед.
Да, они тоже были отцом и матерью, были поколение назад, всего-навсего одно поколение.
Погладил старик шест, на котором люлька висела, и задумался: когда ж он в последний раз люльку подвешивал? А старуха расхлопоталась возле колыбели, и лицо ее светилось заботливой нежностью.
Оба удивлялись, что под их кровом, в их покосившейся лачуге, снова завелось крошечное дитя. И оба чувствовали себя как-то странно — вроде снова вдруг помолодели.
Так поселился маленький Айду меж закопченных стен, под провисшими стропильными жердями, давненько уже не слышавшими ни детского плача, ни веселого визга. Те, кто здесь плакал да резвился, уже и вырасти успели, и тихо слечь до срока в сырую землю.
Неделю спустя малыш и сам начал верить, что отец его всегда был седым, а мать — вся в морщинах.
«Дзинь-дзень, дзинь-дзень!» — водил дед бруском по косе. Сел на приступке, черенок прямо в землю упер, пупок черенка — в колено и водил по косовищу то справа, то слева: дзинь-дзень, дзинь-дзень!..
И на звук этот откликнулся откуда-то из закоулка кузнечик: тирри-тарра, тирри-тарра…
Запряг дед старого Сивого в телегу, поставил на телегу зыбку, упрятал в солому крынку с молоком и поехал на сенокос.
Тогда так бывало: девчонка, что у них пастушила, скрывалась с коровой да с овцами в ольшаник, полуслепой пес увязывался следом за косарями, а в доме ни души не оставалось, если не считать серого кота. Только подпирали дверь хибары чуркой. Такое тогда было время, такие люди.
Верст через пять добрались до покоса, до кочковатого и холмистого лужка. У леса, на опушке, рос узик и душистый колосок, а чуть подальше — куда ни глянь — трясунка. На холме белели кошачьи лапки и синела сон-трава, возле ельника стлался плаун и вздымался кукушкин лен. Вот каким был покос.
Уже тридцатый год старик приходил сюда каждое лето со старухой, косил здесь траву и копнил сено, а зимой возил его по санной дороге домой.
Удивительно, как это березы не сдвинули своих вершин, чтобы зашелестеть, зашептать при виде Айду…
А может, они так и сделали, точь-в-точь как это делают деревенские старухи, отмывая овец на берегу Красного ручья или посиживая субботним вечером на крыльце молельного дома и судача о родившихся, а то и неродившихся детях.
Березы ведь не знали, что маленький Айду сирота и что на руках его держит бабушка, а не мать.
Как водится, в самом начале Заокольного леса старик со старухой остановились. Дед выпряг из телеги Сивого и пустил его пастись под черной ольхой.
Читать дальше

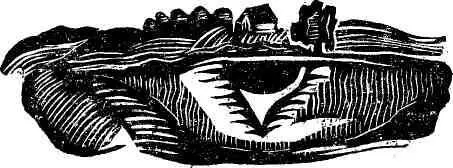
![Любовь Алферова - Платиновый обруч [Фантастические произведения]](/books/23941/lyubov-alferova-platinovyj-obruch-fantasticheskie-p-thumb.webp)



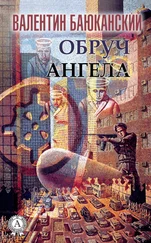
![Сергей Васильев - Обруч [СИ]](/books/426378/sergej-vasilev-obruch-si-thumb.webp)