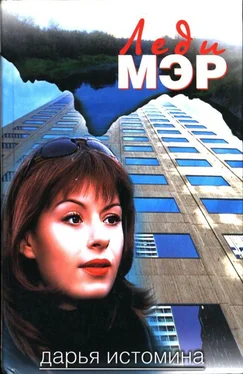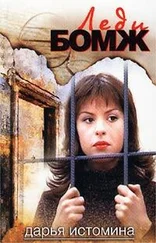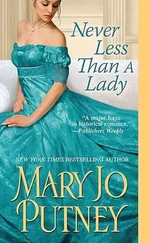— А я уже решила! Обойдутся… Виват родимой школе! Пора платить долги!
— Ну ты все такая же… Порох! Сначала делаешь, а потом начинаешь думать — зачем… Город тоже родимый…
— Да при чем тут город? Хватит с меня… За каких-то покойниц отдуваться!
— Покойниц?
— Именно. За одну, Туманскую Нину Викентьевну, первую жену моего котяры блудливого, пахала будь здоров. Даже по ночам, в койке. Хотя я ее и живой-то не видела. А теперь что? Еще за одну упокоенную Маргариту Федоровну Щеколдину ее дерьмо разгребать? Да от меня уже самой гробами несет… Дорогими могилками… Все! Налопалась! Я жить хочу! Сама! Своей собственной жизнью!
Неожиданно, усиленные пустотой школы, за стеной громогласно звучат фальшиво-яростные аккорды фортепьяно.
— Что это?!
— Адамыч чудасит. Инструмент настраивает.
Мы торопимся в спортзал.
А там Артур Адамыч, горбатый от старости, в белом застиранном сюртучке, но с бархатной «бабочкой», играет на фортепьяно газмановских «Офицеров», с интересом глядя на Гришку, который стоит на табурете и увлеченно заливается прекрасным дискантом. От дверей, присев на корточки, за ними наблюдает Лохматое.
А Гришуня разливается:
— «Ахвицеры, ахвицеры… Ваше сердце под прицелом!»
И тут под крышкой рассохшегося фортепьяно со звоном лопается струна, опрокидывая всех нас в тишину.
— Ну вот… Опять то же самое! И руки сводит… — бурчит Адамыч, растирая аристократические кисти рук, изломанные артритом, в буграх и старческих венах.
Гришка вздыхает:
— Там дальше еще интересней. Мам, я не допел.
Лохматов смеется:
— Давно я не слышал в сих стенах что-то более вдохновенное! Браво, маэстро!
— Сынуля вас не очень заколыхал, Артур Адамыч? Он может.
Адамыч рассматривает меня и чешет маковку, припоминая:
— Послушайте, Басаргина? Конечно, Басаргина! Очень интересный голосишко у вашего сынка. И слух отменный. Но что-то я не припомню, чтобы вы в вашем классе лично у меня отличались подобными вокальными способностями… В кого же он?
— Ты все путаешь, Адамыч. Это не она, это Ираида отличалась. Подружка ее. Они же не разлей вода были… Горохова…
У меня перехватывает горло от ненависти:
— Не надо так. Нина Васильевна… Даже поминать ее… Не надо!
А потом я совершенно неожиданно получаю по мозгам от обожаемой педагогши по полной программе.
Она провожает нас с Гришкой до ворот школьного двора, и, когда я спрашиваю, когда мне зайти к ней, чтобы получить программы к новому учебному году, познакомиться с установками и новыми методиками по преподаванию английского, Нина Васильевна, сняв очки, изучает меня как-то брезгливо-враждебно и даже не без жалости.
— Это отпадает, Басаргина, — ледяным тоном абсолютно безапелляционно заявляет она. — Я тебя в учительши не возьму. Подмокла, что ли? Боишься ручки испачкать? Не собираешься в нашем сомовском дерьме ковыряться? Ты же Басаргина, Лиза! Хоть деда-то вспомни! Ты же никому в школе не спускала… Ни одной обиды… Даже пацанам! Всех метелила! А ведь мы… обиженные, Лиза. Все мы тут… обиженные.
— Вы что? Всерьез? Нина Васильевна?! — Я уже почти ору в ужасе.
— Более чем…
— Да я завтра же шмотки соберу! Гришку под мышку… И к чертовой матери отсюда… Куда глаза глядят… Да на кой хрен мне еще и тут себя гробить?
— Ну тогда ты будешь просто мелкая дрянь. Так — дерьмецо на палочке… Прости уж!
Старушечка моя церемонно кланяется и чешет в школу, держа спинку прямо, как солдатик на строевой, и ни разу даже не оглянувшись.
Мне обидно.
До ожоговой боли.
Ничего себе — пришла к своим…
А своих нигде у меня и нету.
И никто не хочет знать, как мечтает жить некая Басаргина…
Всем на нее наплевать. И у каждого на сей случай — своя личная колокольня.
Гришуня что-то учуял. Заглядывает мне в глаза, теребит:
— Ты чего, мам? Тебя обидели?
— «Белые пришли — грабют… Красные пришли — грабют… Куды крестьянину податься?» — бурчу я. — Это кино такое было, Гришунька.
— С Шварценеггером?! — вспыхивает он любопытством. — Мы с дедом Сеней сколько раз про него смотрели!
«С каким это дедом Сеней?» — вяло думаю я. И только потом доходит. С Туманским, конечно. Сим-Симом. Семен Семенычем. Он же для Гришки — древний дед. И парень про него не забывает.
А я?
Когда мы с Гришкой добираемся до дома и я вижу, что коричнево-аппетитная в хрусткой кожице индюшка из даров кавказского ресторатора уже засажена в духовку и дожаривается, распространяя закусочно-обалденные ароматы по всему участку, я устраиваю Агриппине Ивановне скандал.
Читать дальше