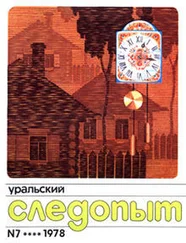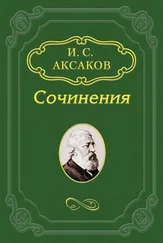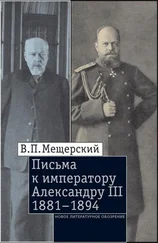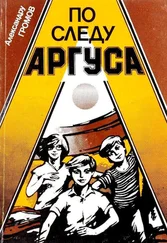— Я проголодался, товарищ Дэнкуш, — сказал он. — Не ел с самого утра, а теперь уже за полночь.
Дэнкуш вышел, чтобы достать чего-нибудь съестного, и не нашел ничего, кроме хлеба и домашней колбасы у Кати Ланга. Григореску расстелил на столе большой лист бумаги, вытащил из кармана перочинный ножик и нарезал колбасу тоненькими, экономными ломтиками, как крестьянин в поле.
— Ешьте и вы, — предложил он Дэнкушу.
— Нет, я не голоден, — ответил тот.
Григореску сделал жест, означающий — как вам угодно! — и спокойно принялся за еду.
— В самый раз бы теперь пивка, но где его возьмешь в такой час? Сойдет и вода. — Он прошел в соседнюю маленькую комнатушку, где был умывальник, и напился из горсти.
Вытер ладонью губы, сел за стол, вытянув ноги вперед. Он чувствовал себя хорошо, усталость прошла.
— А теперь — за работу. Дел у нас хватит на всю ночь.
— Товарищ Григореску, — произнес Дэнкуш, — я очень сожалею о тех ошибках, которые допустил сегодня, и в особенности о том, как вы правильно заметили, что довел все до такого состояния. Если бы я вовремя принял меры, то не погибли бы эти люди, ночью и сегодня днем.
— Не терзайтесь, товарищ Дэнкуш. Может быть, иначе и не вскрылся бы нарыв. Я лично приехал, должен сказать правду, чтоб наказать вас, прибегнуть к крутым мерам и успокоить префекта. Не столкнись я лично с народом, остался бы при своем мнении. Однако дело приняло другой оборот: тут или соглашайся, или давай отпор, разгоняй силой, — а это решительно невозможно.
— Вы отлично разобрались в ситуации, — с искренним восхищением сказал Дэнкуш.
— Как же тут не понять, если стоишь перед угрозой политической забастовки? Даже если бы Карлик и префект были ангелами, нам все равно пришлось бы отделаться от них.
Октавиан Григореску понимал настроение масс иначе, чем Дэнкуш, то есть он не робел ни перед чем, тогда как учитель, хоть и был сыном крестьянина-бедняка, подобно многим искренним интеллигентам-демократам, как бы чувствовал перед народом какую-то вину. Сколько бы он ни пережил, через какие бы трудности ни прошел, он все же жил иначе, чем люди из народа. А Григореску сам был из народа и умел просто войти с ним в контакт, не идеализируя его.
Он тоже родился в деревне, работал с малых лет в котельной мастерской, среди оглушительного шума и духоты. Конечно, было тяжко, но он не мог возвратиться домой к пяти соткам земли, которыми кормились еще шесть ртов. Он не мечтал об овечках, о пахучих полях. У него не было ни времени, ни желания, как у многих «интеллигентов, выходцев из села», предаваться тоске по пашне и элегически вопрошать, почто его оторвали от плуга, запряженного волами. Спору нет, останься он дома, нечего было бы есть, пришлось бы пойти батраком к помещице «барышне Клеопатре», скаредной старой деве, спать на соломе, прозябать без всякой надежды на лучшую долю. В мастерской же он мог чего-то добиться и, проявив смекалку и упорство, стать мастером, обзавестись домиком на окраине, садиком, как у его дяди, кровельщика, вполне сносно сводившего концы с концами и устроившего на работу его самого.
Потому, поступив в эту адскую мастерскую, он понял — так надо, и перечеркнул свое короткое прошлое, лишь изредка позволяя ему пробиваться в свои воспоминания. Он быстро освоился в ремесле, в отношениях с людьми, был старателен, немногословен, проворен и, взрослея, сумел внушить уважение к себе. Один из механиков, человек пожилой, стал было измываться над ним, он помалкивал, но при первом же удобном случае здорово отдубасил его, чем и заставил считаться с собой.
Он никогда не забывал ничего раз пережитого, твердо запоминая не события как таковые, не чувства и ощущения, а уроки, которые извлекал из прошлого. Ни от кого он не ждал ничего хорошего, полагался только на себя, все завоевал сам. Суровая школа жизни выработала в нем здравый смысл и трезвый взгляд на вещи, обогатила большим опытом. Раз во время забастовки он понял, что «один в поле не воин», и примкнул к рабочему движению, сначала вступил в профсоюз, потом в коммунистическую партию. Был арестован, осужден, научился молчать на допросах и все глубже развивал свое практическое чутье, осмотрительность и решимость, которые постепенно приобрели другой, более широкий, всеобъемлющий смысл. Он понял, что все историческое прошлое человечества было поприщем классовой борьбы, и эту борьбу следовало вести самым действенным образом.
Он решил не разбираться с Дэнкушем в его недостатках, действительных — ибо были и действительные — или воображаемых. Не время, уже за полночь, он подкрепился колбасой, утолил жажду, а работы было хоть отбавляй… И Григореску повторил:
Читать дальше