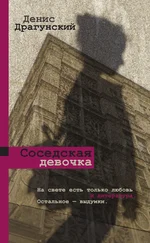— Ага, ты революционерка, коммунистка? — засмеялся Ханс.
— Не знаю, коммунистка ли я, но не в том дело.
— А в чем же?
— А дело в том, что, допустим даже, ты прав. Допустим, мама и папа обеспечили мне счастливое детство и беззаботную юность. Но это всего лишь треть жизни. Я не думаю, что проживу больше чем шестьдесят шесть лет.
— Откуда ты это взяла? — с неприязненным испугом спросил Ханс.
* * *
Смешно сказать, но Ханс Якобсен уже целый год думал о смерти. Даже не о смерти как таковой, а о сроке своей жизни.
Это началось раньше, чем Кирстен покончила с собой. Это началось, пожалуй, с их свадьбы. Он планировал свои деловые предприятия на год, на три, на пять, он как будто бы боялся заглядывать сильно вперед и уж совсем не мог себе представить, как он будет жить в шестьдесят, семьдесят, а тем более в восемьдесят лет. Хотелось дожить до восьмидесяти, до девяноста, до глубокой-преглубокой старости, пускай даже старческий маразм, пускай коляска, но все равно ежеутренняя радость посмотреть на небо и выпить чашку теплого чая. Жизнь! А иногда ему казалось, что все наоборот, что это самая страшная казнь и лучше при самых первых признаках физической, а особенно умственной немощи спокойно и сознательно расстаться с жизнью, приведя в порядок все дела, написав завещания, сделав крупные благотворительные взносы и подарки близким друзьям. Чтоб на поминальном обеде все было весело и благодарно. Особенно же эти мысли усилились в нем после самоубийства Кир-стен. Когда ее хоронили, он, разумеется, не снимал с лица маски невероятной, нечеловеческой скорби и потрясения. К сожалению или к счастью, он умел это делать очень хорошо. Но промежуток между маской и лицом, эти буквально полмиллиметра прохладного воздуха, сохранялись всегда. И, глядя на фарфоровую Кирстен в изящном розовом гробу, он думал только одно: ей, вот этой вот мертвой куколке, всего двадцать лет и восемь месяцев. Странная привычка у него была: рассуждая о возрасте, он всегда считал месяцы. Наверное, из-за Сигрид, из-за того, что они одного года рождения, но он январский, а она декабрьская, Ханс Якобсен уточнял: «Мне четырнадцать лет и пять месяцев, а моей сестре — тринадцать лет и полгода».
Поэтому он со страхом посмотрел на Сигрид именно тогда, когда она сказала про шестьдесят шесть лет. Он вдруг представил себе ее мертвой, в таком же красивом розовом гробу, как Кирстен. Только не такую куколку, а уже вполне пожившую и пожухшую даму. С ужасом и с каким-то странным отвращением он представил себе, как ее чудесно отрисованные, чуть припухшие губы уплощатся и расплывутся на мертвом лице. Как ему придется, склонившись, отдавать ей последнее целование. Его чуть не стошнило, буквально. Он кашлянул и едва сдержал самый настоящий позыв рвоты. Ему вдруг стало жалко Сигрид — и себя тоже. Даже захотелось затащить ее к себе под одеяло, нет, без всяких непристойностей, разумеется. Никакой любовной близости, просто обнять ее горячее, теплое, усталое от всех этих приключений тело и сказать: «Не плачь, сестричка, все будет хорошо. Я с тобой».
Однако он тут же прогнал это желание — как злобно гудящего, опасного шершня, внезапно заглянувшего, но не успевшего влететь в окно. Махнул салфеткой и захлопнул форточку.
* * *
— Одна треть жизни! — меж тем продолжала она. — Одну треть жизни родители посвятили тебе и мне. Хотя, дорогой Ханс, не только мне и тебе. Мой папа не был моим батраком, а мама не была моей кормилицей. Они делали еще тысячу веселых и интересных дел. Ходили в гости, в театры, путешествовали, читали книги, да мало ли. Но предположим. Не будем считаться днями и часами, предположим, что эту первую треть я прожила за их счет. Ну, так оно и есть. Ладно. Но, — сказала она, снова резко повернувшись к Хансу и приблизив к нему лицо, — но значит ли это, что я должна посвятить им остальные две трети своей жизни? Значит ли это, что в благодарность за их заботу, а в нашем конкретном якобсеновском случае — в благодарность за папины деньги… Да, именно за деньги! Ведь мы же не бедная крестьянская семья, где отец и мать реально, что называется, вручную растят ребенка… Значит, в благодарность за папины деньги я должна остальные две трети, проще говоря, всю свою взрослую жизнь, ходить по нитке, жить по их указке?
— Да никто не говорит об указке, — возразил Ханс.
— Хорошо, — согласилась Сигрид, — не по указке. Жить так, как им приятно, жить так, как они считают нужным. Разве это справедливо? Разве справедливо заплатить сто крон и требовать, чтобы тебе отдали двести? Разве это справедливо — работать на человека неделю, а требовать, чтобы он за нее отрабатывал две? Это совсем несправедливо. Никакой самый хищный капиталист не эксплуатирует своих трудящихся так, как родители эксплуатируют своих детей. Тут какая-то несусветная получается прибавочная стоимость! — Она засмеялась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
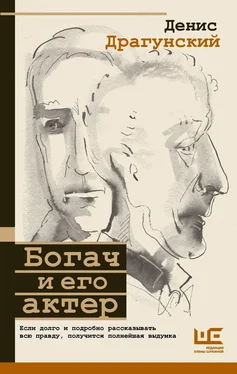









![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)