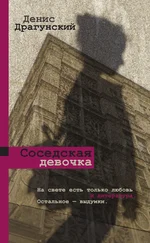Та тетка, которую он полчаса назад видел из окна своего номера, все еще продолжала гулять у воды. Вернее сказать, не гулять, а стоять, сложив руки на груди. Дирку показалось, что она и в самом деле негритянка или мулатка. Светила луна, и ясно было, что и голова, и лицо у нее темнее, чем должно было быть даже ночью.
* * *
Единственной женщиной, которая так и не поговорила, так и не познакомилась с Дирком фон Зандовом во время съемок, была знаменитая певица Альбертина Райт. Да, конечно, она была оперная дива высшего разбора. Но все-таки Дирку казалось слегка унизительным специально подойти к ней или просить кого-то, чтобы его познакомили. С другой стороны, он вовсе не хотел, чтобы она специально подходила к нему сама, протягивала руку, делала книксен и говорила: «Господин фон Зандов, честь имею представиться». Он со всеми тут знакомился естественно, спонтанно, просто встречаясь глазами, или передавая тарелку у шведского стола, или присаживаясь за столик, — это получалось легко, естественно, по-человечески, без церемоний. Со всеми, начиная от Маунтвернера и кончая этим загадочным и опасным торговцем оружием из Ливана, который хотя в дальнейшем и не выказывал особого желания общаться, тем не менее при первой встрече улыбнулся, протянул руку, назвал себя и, услышав имя Дирка, по-восточному приложил руку к сердцу и поклонился. И Дирк сделал то же самое. Не говоря уже о дамах и господах рангом пониже. Впрочем, здесь по затее Ханса Якобсена все были равны, все были его друзья. И только Альбертина Райт, громадного роста, полноватая, большегрудая, держалась как памятник себе. Медленно и величественно проходила к столу, за которым уже сидела такая же здоровенная ее камеристка, и смотрела всегда прямо перед собой, поверх голов окружающих. Ей это удавалось, потому что росту в ней было, наверное, метр восемьдесят пять. Возможно, думал Дирк, все дело в том, что она чернокожая, и есть в ней поколениями воспитанная особая негритянская обидчивость, сверхчувствительность к любому жесту, взгляду или интонации. Да, поколения рабства. Ведь все они, даже самые продвинутые негры — джазмены, актеры, спортсмены, певцы и миллионеры, — все они имели дедушку-раба и бабушку-рабыню. Потому и держатся так надменно. А божественную Альбертину упрекать и вовсе было невозможно. Ее надменность была скрыта в ней самой, она не выходила наружу, певица никого не третировала, не глядела презрительно, она действительно существовала как статуя.
Россиньоли хотел, чтобы она пела, но не просто так, а сольную партию сопрано в «Реквиеме» Джузеппе Верди. Для этого он заставил еще двух друзей Ханса Якобсена спеть соответственно басом и тенором, а какую-то актрису, подругу скрипача Либкина, сделал меццо. Строго говоря, в присутствии Альбертины меццо было не нужно, потому что у нее был потрясающий диапазон, но никуда не денешься, в «Реквиеме» Верди, как, впрочем, и в «Реквиеме» Моцарта, помимо хора поют четыре солиста. Подруга Либкина оказалась неплохой певицей. Правда, она не хотела петь вместе с Альбертиной Райт, и Россиньоли тщательно и нежно ее уговаривал. «Для биографии, мадам, для мемуаров», — говорил он. Она долго фыркала, но в конце концов согласилась.
Россиньоли задумал перед самым финалом, перед тем как «Гранд-отель» погрузится в ту самую тьму, драматическую сцену. Шумная оргия, балаган и фейерверк закончились, все разошлись по своим номерам, постепенно гаснут окна, на площадке у воды остаются только два человека — Ханс Якобсен (которого, разумеется, играет Дирк фон Зандов) и великая певица.
У них, как явствует из диалога, были какие-то очень непростые отношения. Она была едва ли не последней его женщиной, а он был если не первым ее мужчиной, то, во всяком случае, первым настоящим мужчиной в ее жизни, первым человеком, который защитил ее, помог ей, обеспечил возможность учиться у самых лучших мастеров вокала, да и всю жизнь помогал не только деньгами, но и своей душой, что на самом деле гораздо важнее, поскольку деньги она очень скоро научилась зарабатывать сама, и ой-ой-ой какие. И все же в их отношениях было много тяжелого, даже, можно сказать, гадкого.
* * *
Обожая ее, Ханс Якобсен всегда помнил, что она черная. Времена были такие. Хотя все законы о преодолении расовой сегрегации были давно уже приняты, и президент Кеннеди давно уже послал национальную гвардию, чтобы черные студенты могли ходить в университет где-то в Техасе, и вся прогрессивная пресса называла черных своими братьями и на разные голоса каялась и за рабство, и за расовую сегрегацию, наступала эпоха политкорректности и расовых квот, когда черный был заранее прав перед белым и заранее предпочитаем и в отделе кадров, и на экзамене, и даже на театре, когда уже появлялись первые Джульетты и Гедды Габлер с черным цветом кожи, но все это была лишь тонкая пленка на бездонном озере исконного европейского и американского расизма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
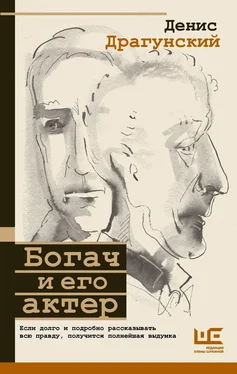









![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)