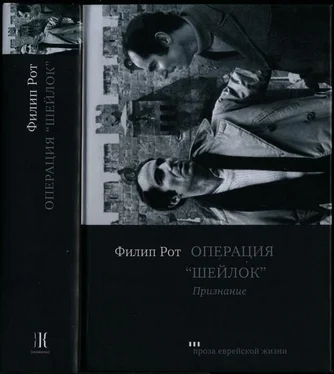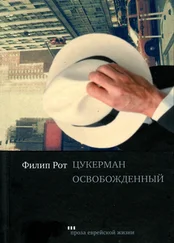Я снова уклонился от ответа. Его следующие слова прозвучали неспешно, напоенные сладостным презрением:
— А чего ждал от меня ты, чем я должен швырять в оккупантов? Розами?
Нет-нет, — произнес он наконец, когда я по-прежнему не проронил ни слова, — это проделывают не старики, а дети. Не волнуйся, Филип, я ничем не швыряюсь. Оккупанту нечего бояться — со стороны такого цивилизованного господина, как я, ему ничего не грозит. Месяц назад они, оккупанты, забрали сотню мальчиков. Продержали их восемнадцать дней. Отвезли в лагерь в окрестностях Наблуса. Мальчиков одиннадцати, двенадцати, тринадцати лет. Они вернулись с травмами головного мозга. Оглохшие. Хромые. Исхудавшие. Нет, это не для меня. Лучше уж буду толстяком. Чем я занимаюсь? Преподаю в университете, если его не закрывают. Пишу для газеты, если ее не закрывают. Мой мозг они тоже травмируют, но исподволь. Против оккупантов я борюсь словами, как будто слова хоть раз помешали им отнимать у нас землю. Нашим повелителям я противодействую идеями — в этом мое унижение, мой позор. Умствования — вот форма моей капитуляции. Нескончаемый анализ нашего положения — вот грамматика моей деградации. Увы, я не араб, швыряющийся камнями, а араб, швыряющийся словами, мягкотелый, сентиментальный неумеха, совсем как мой отец. Езжу в Иерусалим, чтобы стоять перед домом своего детства и смотреть на него. Вспоминаю отца и крах его жизни. Смотрю на дом, и мне хочется кого-то убить. А потом еду назад в Рамаллу, чтобы, совсем как он, оплакивать все утраченное. А ты — я знаю, зачем ты здесь. Я об этом в газетах прочитал и сказал жене: «Он все тот же». Как раз позавчера я читал сыну твой рассказ «Обращение евреев». И я ему сказал: «Он это написал, когда мы были знакомы, написал в Чикагском университете, в двадцать один год, а теперь он все тот же». Я влюбился в «Случай Портного», Филип. Гениально, просто гениально! Я задаю его читать студентам в университете. «Вот еврей, — говорю я им, — который никогда не боялся говорить о евреях во весь голос. Независимый еврей, и тоже пострадал за свою независимость». Я пытаюсь убедить их, что на свете есть евреи, совершенно непохожие на тех, что мы видим здесь, у нас. Но в их понимании израильский еврей — такое исчадие ада, что они отказываются верить. Смотрят по сторонам и думают: что они создали? Назовите хоть одну вещь, которую создало израильское общество! И знаешь, Филип, мои студенты правы: кто они вообще такие? Что они создали? Грубые, крикливые, толкаются на улицах. Я жил в Чикаго, в Нью-Йорке и Бостоне, я жил в Лондоне и Париже, но таких людей нигде на улицах не видал. Сколько в них спеси! Создали ли они хоть что-нибудь сопоставимое с тем, что создали вы, евреи всей планеты? Нет, ровно ничего. Ничего, кроме государства, которое опирается на силу и желание господствовать. Если говорить о культуре, она не идет ни в какое сравнение… Живопись и скульптура унылые, композиторами ничего не сделано, литература третьестепенная — вот все, что произвела на свет их спесь. Сравни это с американской еврейской культурой — просто ничтожно, просто курам на смех. И, однако, они смотрят сверху вниз не только на араба и его менталитет, не только на гойим и их менталитет, но и на вас и ваш менталитет. Эти провинциальные ничтожества задирают нос перед вами. Можешь себе представить? В Верхнем Вест-Сайде в Манхэттене больше еврейского духа, еврейского юмора и еврейского интеллекта, чем во всей этой стране… Если же говорить о еврейской совести, еврейском чувстве справедливости, еврейской душевности… в «Забаре» [18] Продовольственный магазин, кулинария и кафетерий в Нью-Йорке.
в отделе кнышей больше еврейской душевности, чем во всем кнессете! Но ты-то, ты-то — как выглядишь! Просто великолепно. До сих пор такой худой! Ты похож на еврейского барона, на какого-нибудь Ротшильда из Парижа.
— Серьезно? Нет-нет, я все еще сын страхового агента из Нью-Джерси.
— Как твой отец? А мать? А брат? — возбужденно спрашивал он. Метаморфоза, которая почти стерла физические черты мальчика, знакомого мне по Чикаго, — это еще пустяк, подумал я, по сравнению с куда более удивительной и серьезной переменой — или даже деформацией. Экзальтированность, возбуждение, говорливость, неистовство, клокотавшие под поверхностью каждого слова в потоке его речи, обескураживающее ощущение, будто он одновременно возбуждается и разлагается, и все время находится в предынсультном состоянии — неужели это Зи, как возможно, что этот обрюзгший и озлобленный циклон несчастья и есть тот самый изысканный юный джентльмен, чьей учтивостью и недюжинным самообладанием мы все восторгались? В те времена я еще был гибридом нескольких личностей, сборной солянкой неотшлифованных свойств, и тяга к мальчишеским шатаниям по улицам все еще была неразрывно переплетена с зачатками высокопарности, а Джордж казался мне таким победительно-невозмутимым, таким искушенным в жизни, такой цельной и впечатляющей, сложившейся личностью. Что ж, судя по его сегодняшним словам, я в нем глубоко ошибался: на деле он жил под коркой льда, сын, напрасно пытающийся остановить кровотечение из ран разоренного, несправедливо обездоленного отца, а его великолепные манеры и рафинированная возмужалость не только маскировали боль от принудительного выселения и изгнания, но даже ему самому не позволяли заметить, как сильно он обожжен позором — возможно, даже еще сильнее, чем отец.
Читать дальше