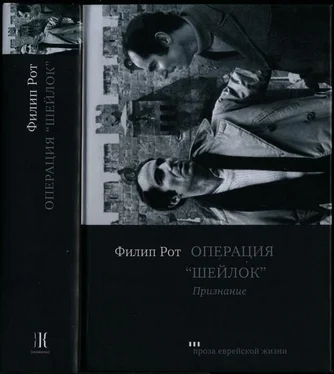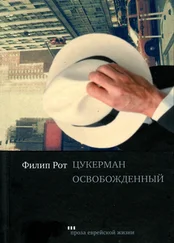Они уезжали из Нью-Джерси, чтобы перебраться в Беркширские горы, где он напишет книгу о диаспоризме, которую оставит в наследство евреям.
Поскольку дислексичка Ванда никогда не читала ни страницы, написанной мной или любым другим писателем, то лишь после того, как они обосновались на западе Массачусетса, узнала, что именно там я поместил дом утомленно-героического Э. И. Лоноффа, чей пример флоберовского анахоретства подтверждает самые возвышенные идеалы Натана Цукермана — боготворящего писателей начинающего молодого прозаика из моего «Литературного негра». Однако, хотя ей было непонятно, что Пипик, начав с кражи моей личности, теперь вздумал усугубить свое преступление, спародировав ( его путь) самозабвенное отношение к своему делу самоотверженного Лоноффа, она все же знала, что я живу менее чем в часе езды южнее их дома, в холмах на северо-западе Коннектикута. И то обстоятельство, что мое пребывание неподалеку должно было непременно его раздразнить, вновь пробудило в ней опасения, а заодно, разумеется, неугасимые фантазии о том, как она вырвется на свободу, — фантазии, навеянные поучительной встречей со мной. (Я напрасно счел, что она неотразима, подумал я. Чтобы это предсказать, не обязательно быть гением.)
— Ой, милый, — рыдала она, — забудь о нем, умоляю. Мы сожжем «Его путь» и забудем, что он вообще существовал! Тебе не стоит переезжать из мест, где он родился, туда, где он теперь живет! Не стоит ходить за ним по пятам! Наше с тобой время вместе слишком драгоценно, чтобы его разбазаривать! Когда ты приближаешься к нему, у тебя ум за разум заходит! Ты снова наполнишься ядом! Поживешь там — и это опять доведет тебя до помешательства!
— Теперь приближение к нему может только вернуть мне рассудок, — сказал он. Как обычно, на эту тему он ничего дельного не говорил — только нес чушь. — Приближение к нему может дать мне только силы. Приближение к нему — противоядие: единственный способ, которым я все это превозмогу. Приближение к нему — лекарство.
— От него надо держаться как можно дальше! — умоляла она.
— Нет, как можно ближе, — ответил он.
— Искушать судьбу?! — крикнула она.
— Ничего подобного, — ответил он. — Хочешь — можешь с ним встречаться.
— Я говорю не про себя и свою судьбу — а про тебя. Сначала ты мне говоришь, что это из-за него у тебя рак, а теперь говоришь, что он — лекарство! Но он в любом случае ни при чем. Забудь про него! Прости его!
— Да я его уже прощаю. Прощаю ему то, что он такой, и себе прощаю, что я такой, и даже тебе прощаю, что ты такая. Повторяю: хочешь — можешь с ним встречаться. Встретиться с ним снова, завлечь его снова…
— Не хочу! Ты мой, Филип, ты мой единственный, ты все равно что мне сын, Филип! Иначе меня бы здесь не было!
— Ты сказала… я правильно расслышал? Ты правда сказала: «Ты все равно что Мэнсон, Филип»?
— Все равно что мне сын! Сын! Ты мне все равно что сын!
— Нет. Ты сказала «Мэнсон». Почему ты сказала «Мэнсон»?
— Я не говорила «Мэнсон».
— Ты сказала, что я твой Чарльз Мэнсон [89], и я хотел бы узнать, почему.
— Но я этого не говорила!
— Не говорила чего? Не говорила «Чарльз» или не говорила «Мэнсон»? Если ты не говорила «Чарльз», а только «Мэнсон», ты что же — просто хотела сказать «мой сын», ты просто хотела сказать, что я твой инфантильный, беспомощный гаденыш, твой «одичавший ребенок», как ты меня назвала вчера, и что же, ты просто опять хотела меня оскорбить, с утра спозаранку, — или ты хотела сказать то, что хотела: что живешь со мной как те зомбированные девки, которые поклонялись наколкам на члене Мэнсона? Я что, терроризирую тебя, как Чарльз Мэнсон? Я что — тебя свенгализирую [90], порабощаю, запугиваю, чтобы держать в подчинении, — потому-то ты верна мужчине, который превратился в полутруп?
— Но до этого тебя она доводит — смерть!
— Это ты меня доводишь. Ты сказала, что я твой Чарльз Мэнсон!
И тут она завизжала:
— Да, ты Мэнсон! Вчера! Все эти ужасные, ужасные истории! Ты Мэнсон! Ты даже хуже!
— Понимаю, — ответил он моим успокаивающим тоном, тем самым, который несколькими минутами раньше пробудил в ней столько надежд. — Ага, это все из-за вилки. Ты меня ни капельки не простила. Просишь, чтобы я простил его за сатанинскую ненависть ко мне, и я его прощаю, но ты, как ни стараешься, не можешь простить меня за четыре крохотные царапины на ладони. Я рассказываю ужасные истории, ужасные, ужасные истории, и что же — ты мне веришь.
— Я тебе не поверила! Я тебе определенно не поверила.
Читать дальше