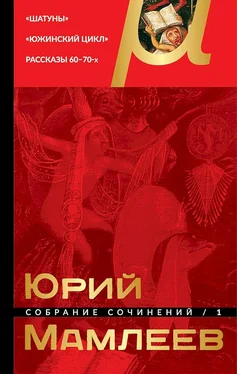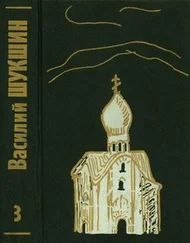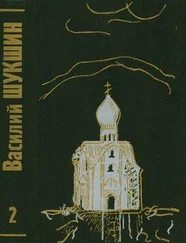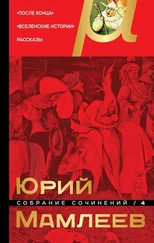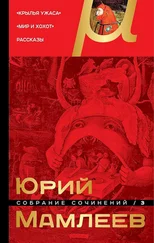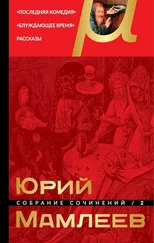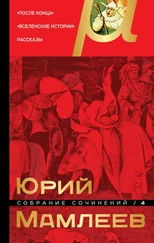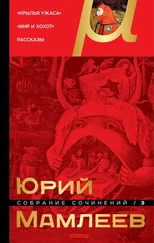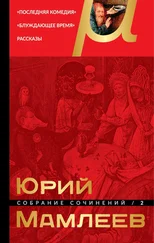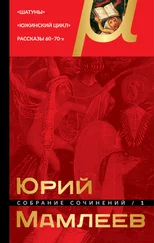Надо заметить, это логично — с точки зрения естественности человеческой жизни. Ведь первый шаг младенца — есть первый шаг к его смерти. Так что же мы, грибы, суетимся — ведь путь лежит необратимый, только туда . И лишь фронтьеры Мамлеева посодействовали правде жизни, поспешив на границу живого и неживого миров, построив свои непрочные редуты, разбив биваки и выстроив посты.
Может возникнуть вопрос: если человек так уверен в никчёмности обыденного существования, если не видит в нём истинной высокой цели, то за чем же дело стало — откупоривай мышьяк, ложись под поезд. Всё не так просто. Интерес героев Мамлеева к «неживому» миру, прежде всего, подлинно творческий. Им страшно интересно знать, что там , и идея самоубийства их отталкивает дилетантской простотой. Они — предсмертные сластолюбцы, желающие продлить мучительное наслаждение познания потустороннего. Так истинный творец не торопится заканчивать шедевр, вновь и вновь нанося мазок, исправляя слово, уточняя изгиб.
А главное — страх. Не тот обывательский, грибной страх, свойственный всем нам перед неизвестным. У них — страх перед потерей личности. Для героев Мамлеева единственная ценность — личность. Бог — «Я». Говорят, когда субъективного идеалиста Беркли спросили, есть ли у него жена и дети (а они у него были), он вынужден был ответить: «Иногда мне кажется, что они у меня есть». Герои Мамлеева похожи на Беркли, но честнее и чище в идее, чем он. Они не исповедуют субъективный идеализм, а живут по его законам. Единственная существенная реальность — личность. Вот почему их страшит — всё же страшит, при всём напряжённом интересе — переход в мир «неживой». Вот почему они продолжают жить на границе — фронтьеры, творцы, идеалисты.
Главный конфликт для всех героев Мамлеева — невозможность перейти в тот мир живым. Перейти, не потеряв и не разрушив личность. Для человека, исповедующего любую религию, такой проблемы нет: он знает, что за гробом — ему сказали. Не то у самостоятельных мамлеевских героев — они не ведают, что там , и толкутся на неширокой границе, время от времени засылая туда десант.
Хорошо было деду Матвею из «Сельской жизни»: из него сознание выскакивало периодически, переходя туда , и потому он был «лёгкий, бессознательный», то есть счастливый. И умер дед Матвей хорошо, красиво. А всё только оттого, что наведывался дед туда — не сам, конечно, но отправляя своё сознание. Очень был благодарен дед Матвей и за это плясал с восторгом, с упоением, как сказано было: «Давид скакал из всей силы перед Господом» (2 кн. Царств, 6:14).
Но не все так счастливы и непорочны, как дед Матвей, который проникал туда в чистом поле. Людям попроще нужны условия, и Юрий Мамлеев щедро предоставляет их. Вернее, предоставляет условия жизнь, обуславливает потребность самого человека, а Мамлеев — широким потоком вводит их в свои рассказы. Впервые в русской литературе ставит ложе греха рядом с исповедальней, сортир с кабинетом, жратву с трапезой.
Стремясь познать потустороннее, герои Мамлеева используют подручные привычные средства. И оттого в рассказах так много быта, мерзости, грязи. Но быта — всегда одухотворённого присутствием идеи.
Только в минуты полнейшей интимности возможно подлинное прикосновение к высшему. А если так, то одинаково ужасно вторжение прозы жизни: бесцеремонный стук в дверь молельни или клозета, звонок телефона во время чтения гениальных стихов или закусывания рыжиком. Все социальные контакты в такие миги бессмысленны и пачкают непорочные ризы общности с потусторонним. Ведь когда ничто не мешает — как легко перейти из забытья в небытие…
Поскольку герои Мамлеева живут в постоянно духовно-творческом напряжении, социальные контакты им не нужны, как правило, вовсе. Супергерои, включающие в себя целый мир, осуществляющие собой идею «Бог — это „Я“», заменяют мироощущение «яйностью». И тогда Иван Петрович Пузиков («Когда заговорят?»), так и не сумев научить членораздельной речи домашних животных, принимает решение. Если так несовершенен мир, что не может заговорить доброе, человеческое существо, то тяжесть этого страшного бремени берёт на себя он, Пузиков. И он съел, поджарил и съел любимых кошку и собаку, «облизываясь от дальнего, начинающегося с внутренних небес хохота», приняв их в себя и тем приобщив к высшему. Ибо «нет у человека преимущества перед скотом» (Экклезиаст, 3:19).
Если и общаются с кем-то наполненные собой и сознанием своей причастности герои Мамлеева, то только через посредников. Шофёр Ваня Гадов («Жених») вдруг обретает неожиданную близость с семьёй убитой им девочки. Так, что даже спит с её матерью в одной кровати, а бабушка убитой «отнеслась к Ванюше просто, по-хозяйственному: иногда даже мыла ему ноги, запросто, как моют тарелки». А портрет покойницы-посредницы ласково глядит на жуть семейной идиллии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу