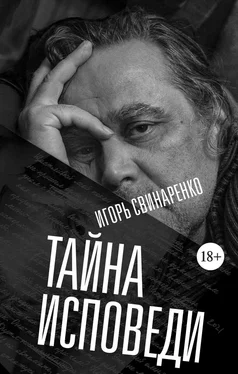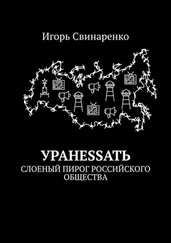Таким оружием я убивал бы врагов с особенным удовольствием. Торжество справедливости было б еще ярче, еще прекрасней. Воображаемое убийство врага не перестает быть убийством, оно — уже участие в войне, это вам не какая-нибудь мирная вегетарианская повседневность. Убийство — даже, скорее, убийства, совершаемые в воображении, — тяжело и удушающе. Настоящее же убиение в реале иногда происходит незаметно и тускло, не давая острых ощущений. Как позже мы прочли про то, что если ты совершил прелюбодеяние в мыслях, то, грубо говоря, за этот виртуальный секс будет такая же суровая кара, как за реал, так и — по этой логике — всякое мысленное преступление ничуть не лучше настоящего, грубого, реального. Небось, не на пустом месте начитанные (хватило б и одной Книги) скандинавы отбирают у своих пацанов игрушечные пистолетики — и то сказать, на кой приучать детишек к орудиям убийства? Отучить после вряд ли удастся…
Я поделился с дедом своими мыслями насчет оружия. Мне казалось, что это его долг — сделать мне пистолет такой же, какой был у него, причем именно в первую войну, а не во вторую. Не помню деталей обсуждения, но он согласился, и на следующий день мы вместе вошли в оружейный цех, то есть в наш пропахший солидолом сарай. Сперва дед из обрезка сосновой доски выпилил как бы обрез фашистского «шмайссера», после подправил его рашпилем и ножиком, и это было, я радостно отметил, весьма технологично. Получился браунинг, который был у деда после нагана. Меня несколько огорчали только грубо прорезанные пазы на деревянной имитации ствольной коробки, наличие которых приводило некоторых двоечников, ничего не смыслящих в оружии — к мысли, что пистолет — двуствольный.
Когда работа была закончена, я наконец получил из дедовых рук «настоящий» пистолет, а не дешевую штамповку, чуть не написал «китайскую» — но из Поднебесной тогда завозили только здоровенные, полутора-наверно-литровые, термоса, покрытые темно-красным перламутровым лаком, с колбами тончайшего зеркального стекла — а больше и ничего, если не считать картинок с портретами Мао в старых «Огоньках», которые не принято было выбрасывать на помойку, они ж тогда считались культурной ценностью.
Таким манером случилась — в моем чистом детском понимании — передача эстафеты: старик, если не старец, передает молодому не то что богатырю, но железному солдату — свое личное оружие. Это было волшебной картинкой, которую маленький мальчик показал сам себе в своем воображении. Этой игрой мысли, кому-то может показаться, легко пренебречь, со смехом причем. Но если бы это было так! В этом мире нет ничего сильней фантазий и волшебных картинок, они и солидный взрослый мозг легко прожигают, а что уж говорить про малых детей. Это выжженное изображение — оказывается сильней всей жизни и всей смерти, и с картинкой после ничего не могут сделать ни сталь, ни свинец, ни книги, ни тайфуны, ни горящая сера с неба.
Я спал с тем сосновым, как гроб, пистолетом под подушкой — как мой дед в 1919 году в украинских селах, где враг мог выскочить в любой момент с топором или обрезом.
В эти вольные, страшные — для большевика — села он пробирался не от хорошей жизни, а после того, как жизнь дала трещину и его планы рухнули.
Я требовал от деда историй про то время, про Гражданскую, про комиссаров — героических парней в кожанах. Он откликался. А у него как раз были в молодости знакомые комиссары, одного он помнил по имени-отчеству — Андрей Данилович, а другого по фамилии — Кандыба. Оба — правда, поврозь, не парой, не Петров/Баширов — по ночам ходили от хаты к хате и деликатно — вежливые ж люди! — просили самогонки, а выпросив, напивались каждый в одиночку и далее, вместо того чтоб устремляться куда-то рушить до основанья старый мир, которого тогда вокруг было еще полно, — никуда не шли, ша, а мирно ночевали в скверике в центре уездного городка; знаете ли вы украинскую ночь? Однажды у пьяного Кандыбы, спавшего так на свежем воздухе, хулиганы украли шашку, и это его сильно огорчило. Он имел даже некоторые неприятности из-за этого!
В какой-то момент деду надоела его размеренная трудовая жизнь, сперва крестьянская, потом пролетарская, ему хотелось выйти за пределы наличного бытия. Человека тянуло к масштабным проектам. И он выбрал самый простой и доступный: приехал в губернский Харьков и пошел записываться «на Врангеля», добровольцем. Но его не взяли! Увы, не удалось ему попасть в романтический Крым, где красоты и приключения, и даже, как после внезапно выяснилось, сакральность. Вместо фронта нашего добровольца «кинули на комсомол». Это показалось ему оскорблением! Он возмущался, жаловался, дошел, по его словам, аж до самого Фрунзе — но ничего не помогло.
Читать дальше