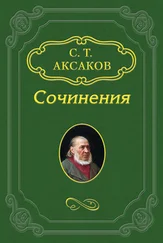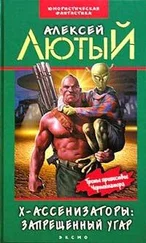Иногда перед объективом оказывалось лицо дышащее, живое, говорящее. Тогда он старался не дышать, чтобы не спугнуть редкую птицу нездешних высот, снимал бережно — и долго еще чувствовал замирание в груди.
Иногда он думал: куда деваются остальные, отбракованные снимки? Он «раздевал» лица во время фотосессий, добирался до самого благого, что можно было в них найти. Оставалось многое множество побочных отпечатков лиц, слишком злых, закрытых, тусклых. Он удалял их из компьютера, но чувствовал, что они живут где-то в других измерениях, томятся, как души в лимбе…
Фотограф долго хранил в компьютере заказанные снимки, так требовалось по работе. Иногда он рассматривал их сквозь бифокальные линзы очков и задыхался от дефицита реальности. Тогда он выезжал за город, в песчаный карьер, ложился на землю и смотрел в объектив на комочки песка. Песок жил своей жизнью. Вечный и нескончаемый промискуитет песчинок рождал слоистые плавные отроги, истончившиеся гордые скалы, сахаристые наивные розы — всю эту невостребованную красоту, рожденную на миг и летящую мимо, с ветром, в никуда… Фотограф снимал эти замысловатые па песчаного танца, тер глаза, отряхивал костюм, сдувал песчинки с очков и спешил в лабораторию. Пока программа делала положенное, ждал, покуривая трубку, стараясь не замечать нудной фоновой боли в желудке. Припадал к влажноватым теплым фото — листал глазами, видел желто-коричневые марсианские горы, обгрызенные жадным нездешним ветром. «Там, там, — думал фотограф, — там живут души снимков после того, как я нажимаю delete на клавиатуре».
Он любил вещи. Вещи были живые. Брошенные старые стулья, рваные чемоданы, желтоватые конверты патефонных пластинок, фарфоровая кукла, ветхое кружево возникали на его пути как знаки, отсылающие его в мир идей.
Он любил объекты глубоко и равно. Покинутая, обобранная старая телефонная будка была для него таким же экзистенциалом, как и напряженное небо над нею. Яблоки в черном зеркале воды значили не меньше, чем пламя свечи. Внутренности расколотого яйца летели на сковородку стремительно, как падший ангел.
Вещи любили его.
Часто он развлекался приготовлением пищи. Шел на рынок, покупал мясо. Решительно спрашивал хороший кусок. Ловкие лукавые руки совали ему в лицо нечто розовое, в кремовых прожилках, блестящее свежим косым срезом. Парная свинина. Он доставал смятые деньги, не глядя на весы, брал поданный пакет. Приходил домой, разворачивал мясо — совсем не то, сунутое ему под нос давеча. Позавчерашняя убоина, вялая, унылая… Смущался чужой хитрости, словно сам словчил. Потом привычно топил липкий стыд за человеков в стопочке беленькой и принимался за работу. Длинными, худыми, чуткими пальцами замешивал тесто, нервничая поначалу оттого, что подушечки пальцев цепко залепило смесью муки и яиц. Оставлял на время тесто, чтобы прокрутить фарш. Реактивно взвывала старая мясорубка, вбирая в себя кусочки второсортного мяса, пучок зеленого лука, хрусткие дольки чеснока. Кухня начинала пахнуть остро и свежо. Он сыпал соли с гениально выверенной небрежностью. Потом перца черного. Погружал ладони в холодноватое пахучее месиво, пропускал его сквозь пальцы, перемешивал. Мыл руки, вновь принимался за тесто, резал, раскатывал, присыпал мукой, ублажал начинкой, тщательно защипывал края.
Сваренные пельмени лоснились на блюде горделивыми округлостями, масло золотисто таяло, ледяная водка потела от такого соседства. Кормил жену, угощал гостей. Гости блаженно урчали от этого фейерверка во рту, но он сам, пробуя, ворчал себе под нос: «Пельмени — дерьмо, ну ничего, вот я другую муку попробую, мясо надо было проверить, и еще…».
Однажды он поднимался по лестнице к себе на шестой этаж. У него выпала зажигалка между третьим и четвертым. Наклонился за ней. Лестничные площадки были выложены старой плиткой, черной и бывшей белой, в шахматном порядке. Он взял свое дешевенькое огниво, упавшее на черную плитку. Под зажигалкой обнаружилось старое неровное пятнышко синей краски. Взгляд фотографа выцепил синий глаз черной рыбы. Он зачарованно оглядел пол.
Призраки рыб, скользящие в вестибюлях дворцов Атлантиды, меж водорослей и колонн утраченных зданий…
Он снимал с сильным увеличением. Каждая плитка исповедалась ему, повестнула о своих трещинках, потертостях, изломах, сколах.
Когда с плитками было все выяснено, заметил, как бесприютны старые чугунные батареи в подъезде. Темно-зеленая бугристая кожа краски обтягивала их ребристые скелеты, они тлели теплом из последних сил. Он смотрел на зеленую батарею, притулившуюся к зеленой же стене, и поражался их вынужденному родству. Сказал: «Сейчас, потерпите» — и умудрился снять их по отдельности и представить друг другу вновь.
Читать дальше