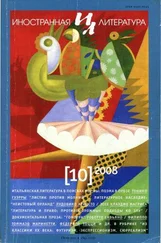Фон Шрбик не обращал внимания на расово-биологическую составляющую, он приветствовал смешанные браки и этническое смешение, не забывая о том, что его собственная семья, германизированная на протяжении нескольких поколений, чешского происхождения. И все же он полагал, что только немецкая кровь служит связующим элементом цивилизации, Kulturnation, культурной нацией Центральной Европы; представители других народов могут подняться до вершин культуры, германизируясь, становясь немцами, как произошло с его семьей. В противном случае они останутся на уровне собственной национальности, то есть более низком уровне, — вызывающем уважение, но все же подчиненном. Славяне могли стать немцами, подобно тому как варвары смогли стать римскими гражданами, однако высшая культура, Kultur, могла быть только немецкой, как прежде была грекоримской.
С подобным немецким универсализмом («отчаянно немецким», говорил Томас Манн, указывая на запутанный клубок, в котором переплетались нередко искаженный внутренний мир, любовь к порядку и тайная тяга к хаосу) связана выдающаяся страница истории европейской цивилизации, интенсивное развитие Kultur, культуры, отразившей противостояние между жизнью и доблестью, существованием и порядком. История фон Шрбика убедительно доказывает, что, когда немецкое превосходство оказывается под угрозой, подобный универсализм может вылиться в самое настоящее варварство. «Немецкая судьба», блеск которой потускнел от пафоса и молчаливой внутренней жизни, была прежде всего способом пережить встречу- столкновение между немцами и славянами за многие столетия их взаимного общения на обширной территории. Нацизм стал незабываемым уроком извращенного проявления немецкого присутствия в Центральной Европе. Однако немецкое присутствие в Миттель- Европе вписало в историю выдающуюся главу, а его закат стал великой трагедией, которую не перечеркивает ответственный за ее деградацию и поражение нацизм. Размышлять сегодня о Европе означает в том числе размышлять о своем отношении к Германии.
Всех нас учили видеть проявление Мирового духа в многочисленных батальонах, однако нам стоит научиться у Гердера видеть его там, где Дух еще спит (или кажется, что спит) или пребывает в младенческом состоянии; возможно, мы не обретем спасения, пока не научимся почти физически ощущать, что всякой нации предначертан ее час и что в абсолютном смысле нет больших и малых наций, а есть смена времен года, цветения и увядания. Жить и читать означает размышлять об «истории человеческой души» во все времена и во всех странах — истории души, которую Гердер прослеживал через историю всемирной литературы, не жертвуя при этом идеей непреходящей универсальности и вместе с тем не жертвуя ради единообразия ни одной из множества разнообразных форм, которые принимает человеческая душа. Любя совершенство греческой формы, Гердер отнюдь не умалял значение латышских народных праздничных песен.
Как и все писатели «Бури и натиска», Гердер любил реку, юный стремительный поток, что течет по долине, даря ей плодородную жизненную силу: глядя на юный и стройный новорожденный Дунай, я задаюсь вопросом, что я увижу, проследовав вместе с ним до самой дельты, среди разных народов и племен, — арену кровавых сражений или хор человечества, которое при всем многообразии языков и цивилизаций представляет из себя нечто целое. Я спрашиваю себя, предстанут ли передо мной поля сражений — прошлых, сегодняшних или будущих, или «дунайская конфедерация», в нерушимое единство которой безоговорочно верил великий граф Каройи (венгерский аристократ, сумевший стать истинным патриотом и вышедший благодаря социализму за пределы своего общественного класса): граф не отказался от своих убеждений, даже когда, будучи изгнанником в Лондоне после того, как в 1918–1919 годах он занимал пост президента Венгерской республики, был вынужден продать плащ, чтобы заплатить бакалейщику.
Возможно, обещания этих невинных вод лживы и люди не способны объединиться; посещение нацистского лагеря доказывает, насколько смешно верить в великое древо человечества, представлявшееся Гердеру воплощением гармоничного единства. Вероятно, этот образ и связанное с ним ощущение полноты — не более чем наша потребность, накладывающаяся на бессмысленный хаос событий. Впрочем, дунайское странствие дотошного путешественника продлится совсем недолго. Завтра вечером здесь, у Брега, к нам должны присоединиться остальные, но, поскольку нам не терпится проверить гипотезу преждевременной кончины реки, мы ненадолго заезжаем в Иммендинген, где Дунай, как было сказано выше, исчезает в провалах скал, чтобы вновь появиться на поверхности, смешавшись с водами Ааха и вместе с ними попасть в Боденское озеро. Прогуливающийся по берегу любезный господин сообщает нам, что летом в этом месте русло реки полностью пересыхает. Однако в Ульме, несколькими километрами ниже, река (которую называют Дунай) даже летом остается широкой и судоходной; значит, летом Дунай рождается гораздо ниже, в Тутлингене, ниже того места, где мы находимся этим вечером, рождается из притоков и ручьев, которые спускаются с холмов и которым ничего не ведомо ни о Донауэшингене, ни о Фуртвангене.
Читать дальше