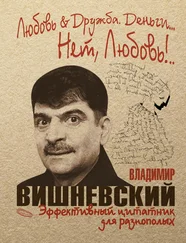Гроб для Ивана, а потом и для Марьи делал Степан Гущин. Работа невеселая, тяжесть, камнем лежавшая на душе, передавалась рукам, и они, привыкшие к рубанку, двигались замедленно, неохотно.
Вся деревня перебывала здесь, в Комаровке, одни уходили — приходили другие, люди подавленно молчали, обменивались взглядами, после которых слова были уже лишними. Глядя на Алешку, женщины вытирали слезы, а он сидел бессловесный и словно бы уже бестелесный — маленький ангел страдания.
Ждали — вот-вот должна приехать родственница из города, о которой перед смертью Марья говорила Нюрахе Силиной, соседке.
Родственница не приехала ни с утренним, ни с дневным автобусом. Тогда решили похоронить Марью без нее. Рассудили так: родственница эта и Марья — люди чужие, друг с другом в жизни ни разу не виделись, а ребенка можно взять и потом, пока же он у кого-нибудь побудет.
Гроб, как было заведено, несли на руках через всю деревню. Вслед за ним шла плакальщица — сухонькая, легкая, как воздух, Катерина Горюнова в черном — с головы до пят — одеянии. Голос ее звучал так тихо и кротко, что, казалось, она не оплакивает, а убаюкивает покойницу. Следом за нею Нюраха Силина вела за руку Алешку. Он не плакал, его большие — «материны» — глаза смотрели на людей с тем безучастным доверием, которое говорит о душевном страдании больше, чем слова и слезы.
«Жалко мальчонку-то», — подумал Степан Гущин. Большой, медлительный в движениях, он, казалось, не помещался в толпе, а потому шел отдельно от всех, чуть в сторонке.
«Трудно ему, чай, пешком-то идти», — рассуждал в нем голос, который как бы отделился от него и жил своей самостоятельной жизнью. Так обычно происходило, когда Степану нужно было принять какое-то решение. Голос подсказывал, советовал. На этот раз он звучал более настойчиво, чем обычно: «Взять бы надо ребенка-то на руки. Взрослых вон и то почти всегда под руки ведут…»
Степан оглядел провожающих, словно убеждаясь, что никто больше не услышал его голоса, и, убыстрив шаг, подошел к Нюрахе.
— Дай-ка я его понесу, — наклонился он к ней, — ребенок ведь еще…
— Понеси, понеси, — шепотом отозвалась Нюраха. — Больно хорошо. Мне-то ведь уж не под силу…
Степан взял Алешку на руки, и тот прильнул к нему, одной рукой обняв за шею.
В тихом, неподвижном воздухе разлито было тепло, неправдоподобно ярко желтели повсюду одуванчики, зацветала в палисадниках сирень. Заслышав пение Катерины Горюновой, хозяйки бросали домашние дела и присоединялись к провожающим. На выезде из деревни все простились с Марьей, по очереди пройдя мимо гроба.
Нюраха хотела взять у Степана Алешку, но мальчик, чего-то испугавшись, не захотел идти к ней.
— Не надо бы его на кладбище-то брать, — предположительно высказался кто-то.
— Конечно, не надо… ребенка-то…
— Пусть здесь простится с бабушкой.
Ребенок по-прежнему обнимал Степана за шею, и тот не знал, что ему делать.
— Подойди поближе к гробу-то, — посоветовали сзади.
Он сделал несколько шагов и остановился над гробом. Алешка испуганно прижался к Степану и вдруг громко заплакал:
— Хочу, чтобы бабушка встала! Почему она не встает?..
Пытаясь успокоить ребенка, Нюраха погладила его по голове.
— Не встанет уж больше бабушка, сынок…
Алешка заплакал еще громче.
— Унес бы ты его к себе домой, — посоветовали Степану. — Пусть пока у тебя побудет.
Степан нерешительно отошел от гроба, перед ним расступились.
— Побудет пока, а там, глядишь, и тетка приедет.
— Как не приехать-то? Разве можно ребенка бросать?
— Находились и такие.
— Мало таких-то…
Степан нес Алешку вдоль солнечной, цветущей улицы. Понемногу мальчик успокоился и даже захотел идти самостоятельно. Степан опустил его на землю и до дома вел ребенка за руку.
Несмотря на яркий день, в избе у Степана было сумрачно. Дом его отвернулся от солнца, и сквозь голые стекла окон с улицы проникал только отраженный, рассеянный свет. В углу слева примостилась железная кровать с витыми проволочными спинками, напротив нее стоял стол, накрытый старой клеенкой, вдоль передней стены, под окнами, тянулась лавка. Справа пол-избы занимала печь с голбцем.
Из-за перегородки Степан принес табуретку, поставил ее так, чтобы, сидя на ней, можно было смотреть в окно, на улицу. Алешке он сказал:
— Ты ведь, наверно, проголодался. Я вот посмотрю, чего у меня есть-то, накормлю тебя.
— Я не хочу, — отказался от еды Алешка.
— Ах ты, грех какой! — пожалел мальчонку Степан.
Читать дальше