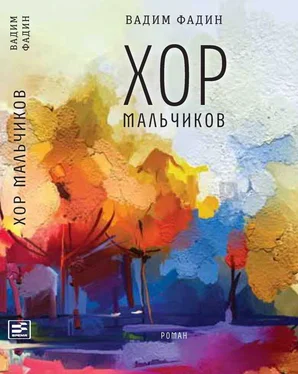— Погоди, у тебя — синяя? Сейчас принесу другую самописку, — остановил его искуситель. — Такие документы пишутся фиолетовыми чернилами.
— Да какая разница? — беспечно махнул рукой Свешников.
Он прикинулся простаком, хотя сразу вспомнил, что фиолетовые будто бы не выцветают со временем, отчего одни только и годятся для бумаг с грифом «Хранить вечно» и, как он заподозрил, — для судебных экспертиз в будущем; такое объяснение не вызвало у него светлых чувств.
— Беда в том, — продолжал он, — что писать другими ручками я почти не умею: получаются сущие иероглифы. Фиолетовыми чернилами я писал, знаете, только в начальной школе, когда макал пёрышко номер восемьдесят шесть в чернильницу на парте…
— Так положено.
— Чем синие хуже? Да у меня от других и ручка засоряется. Такой тонкий механизм. И объясните наконец, почему так важен цвет. Ведь главное — содержание и подпись, верно? Нет, как хотите, но я напишу своим пером.
Угадав возможность новой отсрочки, Свешников не торопился закончить неумное препирательство, и оно продолжалось ещё с десяток минут, пока партиец сам не прервал его на полуслове: вдруг поднялся и ушёл — за ответом ли, за помощью или всё же за чернилами. Ясно было, что передышка будет недолгой, но, к удивлению Дмитрия Алексеевича, сцена не повторилась больше никогда; то ли он, в чём-то провинившись, и в самом деле стал недостойным, то ли его оппоненты поняли, что бессильны перед ним, но только звать его в партию больше не пытались.
— Фантастическая история, — рассказывая потом об этом, разводил он руками.
Рассказал он об этом и на семейном ужине, когда родные Людмилы Родионовны наконец собрались, чтоб увидеть, как она говорила, «своего иностранца». Старший из сыновей, Константин, сочтя сюжет невероятным, осведомился, как в действительности Дмитрий Алексеевич сумел уберечься от порчи. Но тот и сам не знал толком.
— Странно, — проговорил он, — что вдруг вспомнилась эта история. За последний год я, кажется, ни разу не подумал ни о чём подобном. Таких советских понятий, как «КПСС» или, скажем, «соцсоревнование», в человеческом мире просто не существует.
— Быстро же ты отвык, — усомнился Святослав. — Я считал, что такие вещи у нас растворены в крови.
— Растворены, ты прав — и никак не рассосутся. Кое-что, правда, удаётся задержать в печени. В моём случае виной могут быть простые недоверие и скептицизм: я всерьёз опасаюсь, что многие большевистские прелести вовсе не ушли навсегда, а скоро вернутся в лучшем виде. Это не просто предчувствие, а результаты дотошного анализа. С таким настроением я уезжал, с ним и живу там. И не я один: мало кто верит в стабильность, ведь по закону то ли Паркинсона, то ли Мерфи обычно из двух возможных ситуаций реализуется — худшая.
— Это и древние знали, — заметила Людмила Родионовна. — Что было, то и будет.
— Верно я сделал, скрывшись. Хотя, если понадобится, они достанут везде.
— С вас и начнут.
— Шуточки…
— Мы всё перебиваем тебя, — спохватилась она.
Но Дмитрий Алексеевич как раз думал, что уже достаточно рассказал сегодня, неприлично затянув монолог. Вместе, во много голосов, за столом почти и не поговорили, а только слушали «своего иностранца», опрометчиво взявшегося рассказывать о стране, которой он ещё не видел и которая не преподнесла красивых сюрпризов, на первый взгляд не дотянув до выношенного им образа заграницы.
Святослав наивно поинтересовался:
— И что же, ты не увидел там разницы с твоей любимой Прибалтикой?
— С нашей, Славик, с нашей любимой… А разница есть, и существенная, главным образом — в длительности воздействия на сознание: прибалтийские впечатления были мимолётны и неповторимы, а останавливать мгновенья я тогда не умел (да и сейчас не научился, но ещё не всё потеряно). Если там попадались какие-то замечательные картины, одна — из Средневековья, вторая — современная, западная, то я изо всех сил старался их запомнить, выучить наизусть, зная, что другие такие же увижу не раньше чем через год, во время нового отпуска, а в ближайшие одиннадцать месяцев мне останется лишь рассматривать снимки. Сейчас же, если нечто подобное я вижу у немцев, то ни о чём не беспокоюсь, потому что это и завтра никуда не денется, и я сам уже вписан в пейзаж.
— И стал достопримечательностью? — съязвила мачеха.
— Перестал ощущать себя инородным телом. Сейчас и здесь, в родной Москве, чувствуется, какой я чужой и лишний — безработный же. В Германии, едва распрямившись после зубрёжки, я вдруг увидел, что нужен самое малое — самому себе, оттого что свободен, переполнен идеями, в том числе и самыми завиральными, и могу сесть за письменный стол, чтобы оформить множественные свои мыслишки в виде, надеюсь, теорий — и никто меня с этого места не прогонит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу