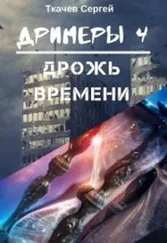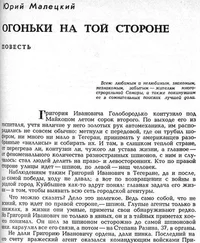Жестяной лоб автомобиля ударил Себастьяна в плечо, вжав руку в туловище, и оторвал от земли. Подошвы ботинок, купленных в эксклюзивном бутике в «Старой пивоварне», взлетели в воздух. Себастьян еще успел ощутить, как одно ребро ломается, распространяя боль на соседние ткани.
Он отскочил от машины, пролетел два метра и упал на тротуар. Ударился головой о плитку, а где-то внутри, под твердой поверхностью черепа, зазвенела чистая, ясная мысль: «Умираю». Он услышал гул реки, текущей где-то внизу, где-то наверху и где-то рядом, и почувствовал, как окунается, окунается в нее и видит все вещи отчетливее, чем когда-либо, видит, как возвращается пешком в Пёлуново, как дает дяде деньги на выкуп двух гектаров земли у Щрубаса, видит Познань, комиссариат полиции и себя в этом комиссариате, видит зал суда и перекошенное от бешенства лицо Шимона Боруса, и вот он погружается, погружается еще глубже, чтобы не видеть его, а глубже показывается четырехместная камера, значительно более удобная, чем та, в которой десятилетия назад торчали его дедушка Ян и парикмахер Кшаклевский, видит долгие часы, проведенные на продавленном матрасе, а потом свободу, которой никогда раньше вокруг себя не наблюдал, и Майю, работающую в салоне мобильной связи, ее волосы, всегда пахнущие кокосовым шампунем, ее голос и ее веснушчатое тело, и вот он погружается глубже, чтобы стало больше голоса и тела, а глубже – коляска, школа, детская площадка за домом, но также долги, гигантские долги перед банком, на которые он не хочет смотреть, поэтому глубже, глубже, а там – смерть матери и дяди, продажа земли в Пёлуново, уплата долгов, о которых он не хочет помнить, поэтому еще глубже, туда, где свадьба дочери, двое внучат, но, кроме того, рак простаты, а сразу за ним – тьма, голоса и шум, уже навсегда, но это все потом, не сейчас, еще не сейчас.
Сейчас он открыл глаза и взглянул на склонившегося над ним парня, того самого, лицо которого за мгновение до этого, за целую жизнь до этого, мелькнуло за стеклом машины. По небу проплывали темные тучи, и первые капли дождя ударяли Себастьяна по лицу и рукам. Он выжил.
* * *
До Пёлуново было чуть больше десяти километров. Он шел пешком. В голове звенело. Казалось, в момент столкновения перед глазами пронеслась вся жизнь. Он ничего не запомнил. Боль в ребрах затрудняла дыхание. Дождь пропитывал одежду. Через первые три километра ботинки стали натирать.
Шел дальше. Миновал дом, в котором давным-давно жила любовница дяди, и место, где Казимеж заметил убегавшего парикмахера.
Думал об отце, которого никогда не видел и который стал вдруг намного более мертвым, чем прежде. Дождь усиливался. На обочине постепенно увеличивались мелкие блестящие лужи.
Шел дальше.
Думал о том, что такого нужно видеть и чего нужно бояться, чтобы за несколько месяцев до рождения своего единственного ребенка распороть себе живот кухонным ножом. Думал о том, чего нужно бояться, чтобы идиотским образом украсть полмиллиона злотых и просадить почти половину непонятно на что. Шел дальше.
Матери ничего не скажет. Только дяде. Дядя должен знать, мать – нет. Сейчас это, впрочем, неважно. Сейчас есть только сейчас. Себастьян шуршит подошвами ботинок по гравию. Справа в поле шелестят зеленые листья кукурузы. В двенадцати километрах отсюда рыжеволосый Дарек Паливода падает за школой с разбитой губой и охает, пока знакомый кулак ломает ему носовую перегородку. Его бабка, которая в 1945 году в Пёлуново вместе с братом стреляла во дворе из кривого лука по яблокам, стоит на коленях в своей квартире в Радзеюве и молится за здоровье Иоанна Павла II. На кладбище в Бычине ветер колышет высокие сорняки, окружающие могилу Яна Лабендовича. Дождь стучит по надгробиям, по крыше костела в Осенцинах и по глади пруда в Шаленках, на дне которого еще лежит немецкий люгер с выбитым номером 6795. Дождевая вода стекает по желобам. Впитывается в землю. Гонит людей с полей в дома. На Опольщине молния ударяет в гнедого коня, а в Крушвице рассекает пополам дерево, под которым Фрау Эберль проклинала с телеги еще не родившегося мальчика. На лугу в излучине Варты поблескивает скелет одного из пяти воронов, клевавших в жаркий августовский вечер в предместье Коло труп старого бездомного пса с кривыми зубами. В траве жужжат сотни маленьких жизней. На поверхности Варты появляется пузырек воздуха. Слышен плеск. Река с шумом омывает песчаные берега и опоры моста – между ними бегала ночью по щебню самая младшая и самая красивая из сестер Пызяк. Осколки гранаты, которую она всегда носила с собой и которая ее убила, глубоко засели в стене дома на Торуньской улице. Осколки других гранат перемещаются вместе с песком под ботинками живых и лежат в трухлявых гробах тех, кто уже умер. Шестидесятилетний работник электростанции, в школьные годы плюнувший на белокожего мальчика, спотыкается в Хелмце о рельсы на трассе угольной магистрали Силезия-Гдыня, ругается и медленно продолжает путь. У него снова болит сердце. Нож, пронзивший сердце Йохана Пихлера, потихоньку ржавеет в иле на дне пёлуновского канала. Ножи, пронзившие другие сердца, лежат в гаражах, овинах и водосточных колодцах, обсыхают на кухонных сушилках и режут хрустящие пшеничные батоны. Ксёндз, венчавший белого человека с отсутствующим взглядом, нарезает хрустящий пшеничный батон в доме своей младшей сестры и смотрит на Влоцлавскую улицу, стоящую в пробке. Когда-то в Коло не было никаких пробок. Когда-то у него не тряслись руки при нарезке батонов. Пуля, которая в шестидесяти километрах отсюда раздробила череп ксёндза Шимона Ваха, уже полвека тянется вверх, миллиметр за миллиметром, заточенная глубоко под корой акации, растущей у дороги между Самшице и Витово. Пули, пробившие другие черепа, засели в других деревьях, коробках и карманах разлагающихся мундиров. Медленно ползут по дну водоемов и в земле, их приводят в движение лишь корни растений и лемехи плугов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу