Инид не ответила. Но когда она вновь подняла на Марджери глаза, лицо ее было искажено гримасой невыносимой боли.
– Слишком поздно, Мардж. Нечего об этом и говорить. И потом, у Тейлора есть револьвер, а сам он не из тех, кого можно запросто бросить.
При этих словах Марджери вновь охватило уже знакомое тяжелое чувство – словно душу ей доверху наполнили густой жидкой грязью. Так что остаток пути они прошли, не сказав друг другу ни слова. Упоминание о револьвере сразу направило их разговор в какое-то совершенно иное русло. И Марджери не могла придумать ничего, столь же весомого, чтобы вернуть Инид обратно. У ворот они обменялись вежливым рукопожатием, точно едва знакомые люди. И Марджери, вытащив из сумочки пачку туристических чеков, сунула их Инид.
– Вот. Возьмите, пожалуйста.
– Но вы ведь уже заплатили мне, Мардж!
– Инид, пожалуйста, возьмите эти деньги. Не следует вам, женщине, оставаться здесь без гроша в кармане.
Инид снова попыталась возразить, но Марджери, не слушая ее, резко повернулась и пошла к воротам. Лишь оказавшись по ту сторону ограды, она услышала, как Инид зовет ее: «Мардж!» – и остановилась.
– Мардж! Спасибо вам! Я просто поверить не могу, что вы специально приехали сюда, чтобы меня найти! Никто никогда так ко мне не относился! Удачи вам! И непременно найдите вашего жука!
Инид все еще продолжала цепляться за проволоку, смеясь и посылая воздушные поцелуи, но Марджери, вконец измученная жарой и этим свиданием, побрела прочь, не оглядываясь, хотя на душе у нее кошки скребли. Она поняла, что весь день колесила по городу и в конце концов забралась так далеко, в лагерь Вакол, с единственной целью: чтобы попросить Инид вернуться и помочь ей. А ведь на самом деле это она должна была помочь Инид; она должна была спасти Инид из лап этого Тейлора. Да, она дала Инид денег. Но чувствовала, что в данных обстоятельствах от нее требовалось нечто большее. И Марджери снова вспомнила то утро, когда у Инид случился выкидыш, а она, лишь взглянув на нее, в панике сбежала. Наверное, думала она, я всегда смотрю на жизнь как бы сквозь стеклянную стену, сплошь покрытую пузырьками и трещинами и от этого ставшую почти непрозрачной, а потому почти никогда и не могу как следует разглядеть то, что находится по ту сторону стены; а если мне это все-таки удается, то обычно бывает уже слишком поздно. И она почему-то вспомнила тех женщин, что сидели, опустив ноги в большое общее корыто с водой, и позавидовала тому, как легко и просто могли эти женщины сесть вот так, рядышком, словно не имели друг от друга никаких секретов. И в душе Марджери вдруг возникла странная ноющая боль, и она догадалась: ей больно потому, что сама она никогда не сможет стать такой, как те женщины. И для них она всегда будет аутсайдером.
Из клубов пыли вынырнул автобус, и Марджери, садясь в него, даже не поблагодарила водителя, который с ней поздоровался и пожелал ей приятной поездки; она просто заплатила за билет и постаралась поскорее найти свободное место. Она все время думала о том, что Инид, наверное, возникла в ее жизни лишь для того, чтобы ее растормошить, растревожить, а потом уйти. И теперь, после ее ухода, жизнь стала казаться Марджери еще более пустой и жалкой, чем прежде. Она попыталась открыть окно, но это ей, разумеется, опять не удалось, и весь обратный путь она страдала от невыносимой жары и духоты.
И от одиночества. Одиночество казалось Марджери сейчас такой же неотъемлемой частью ее самой, как руки и ноги.
Он был сейчас так близко от нее, что мог бы ее коснуться. Мог протянуть руку и – тук-тук-тук – постучать ей по шлему.
Ребенком он, казалось, никак не мог усвоить всеобщие правила поведения. По крайней мере, правила, известные всем мальчишкам. Например, во время драки он мог сильно толкнуть противника, но ему всегда казалось, что этого мало, что его надо обязательно еще и ногой хорошенько пнуть, и он пинал, и тогда уж все остальные дружно набрасывались на него самого. Или же, услышав какую-то шутку, он начинал смеяться и часто не мог остановиться, хотя все остальные давно уже смеяться перестали и в результате смеяться начинали уже над ним, называя его умственно отсталым. И стоило ему услышать это выражение, как внутри у него словно кто-то поворачивал выключатель и его гнев сразу поднимался волной и еще долго продолжал бушевать, а он понятия не имел, как этот гнев выключить.
Мать всегда плакала, когда он в очередной раз являлся, весь покрытый синяками и ссадинами. Она говорила, что это разбивает ей сердце. Потому что он ее дорогой особенный мальчик. Потому что каждый раз, как ему делают больно, больно становится и ей. Но Мундику совсем не хотелось причинять ей боль. И тогда она ему объясняла, что внутри у него полыхает пламя, только не все это понимают, так что он должен быть осторожен, должен стараться вести себя хорошо и вовремя прикрывать это пламя заслонкой, чтобы никому не навредить, а иначе с ним однажды может случиться большая беда. Однако он далеко не всегда успевал заметить, что пламя в его душе успело вспыхнуть и разгореться.
Читать дальше
![Рейчел Джойс Золотой жук мисс Бенсон [litres] обложка книги](/books/433353/rejchel-dzhojs-zolotoj-zhuk-miss-benson-litres-cover.webp)



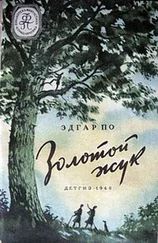



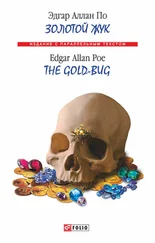
![Джойс Оутс - Опасности путешествий во времени [litres]](/books/401695/dzhojs-outs-opasnosti-puteshestvij-vo-vremeni-litre-thumb.webp)

