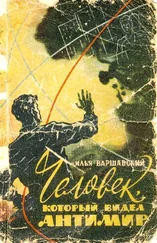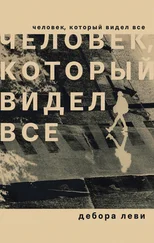У кровати стоял Райнер.
– Добро пожаловать домой, в Британию. Или вы еще плаваете в озере Эрика Хонеккера?
– Я определенно в Британии, – ответил я, хотя губы мои и не желали шевелиться. – Райнер, меня правда отпустят домой на следующей неделе?
– Кто это вам сказал?
– Медсестра, которая дежурила ночью.
Я подался вперед, сорвал лепесток с одного из подсолнухов и все мял его в пальцах, пока он не превратился в желтую труху. Райнер удивленно взглянул на меня, но возражать не стал. Он приставил стетоскоп к моей груди и начал медленно видоизменяться, превращаясь в Райнера из Восточной Германии.
– Совершенно верно, – заявил он. – Враги повсюду, даже среди ночных медсестер. И каждый готов при любом удобном случае устроить диверсию.
Произнося это, он был сам на себя не похож. Но мне ли судить, ведь я так мало его знал. Он слушал, как бормочет и жалуется мое сердце. А я тем временем думал, что его уши – это новейшие прослушивающие устройства, которые устанавливаются прямо в голову.
Дженнифер спросила, не хочется ли мне чего-нибудь, пока я тут лежу в постели в ожидании некого события. Голос ее доносился ко мне словно сквозь шум воды, монотонный и печальный. Еще я слышал звук собственного дыхания и хруст, с которым сгибался палец на ноге.
– Я бы с удовольствием съел сэндвич с беконом. И принял ванну. И погладил свои рубашки.
Мой ответ удивил ее.
– Я думала, ты пожелаешь чего-нибудь глобального, в мировом масштабе.
– Мне бы хотелось снова начать ходить. Пообщаться с племянниками. Может, увидеть Джека. Райнер говорит, через неделю меня отпустят домой.
Она не ответила. Я решил, что она, наверное, сейчас вытащит свой блокнот и велит мне навестить Джека и племянников, принять ванну и погладить рубашки, а сама будет зарисовывать карандашом все, что я ей опишу.
К лицу прикоснулись ее пальцы.
– Воздух здесь очень сухой, – сказала она и смазала мои губы каким-то кремом.
И верно, они у меня потрескались и болели.
– Да-да, – шепнула она, – размажь его. Вот так.
Склонившись надо мной, она глядела мне прямо в глаза.
Я бы лучше занялся глажкой рубашек сразу во всех временных пластах, в которых существовал, чем снова оказаться в том пруду, где мы с Дженнифер плавали после того, как похоронили Айзека.
– Я ничего не знаю о тебе, Дженнифер. О том, как ты жила после «нас».
– Верно.
Я замолчал, ожидая, что она начнет описывать мне свою последующую жизнь. Но ждать пришлось долго.
– Что ж, ты хоть спроси меня о чем-нибудь, – наконец сказала она.
Наверное, я хотел бы услышать, кем был тот, кого она называла «золотко» и «солнышко» по телефону. Где она жила и как жила. И в то же время мне совсем не хотелось этого знать. Я не мог проникнуть в ее мысли и чувства. Я даже в свои собственные мысли и чувства не мог пробраться.
– Дженнифер, мне по-прежнему запрещено описывать твое тело?
– А что-нибудь еще во мне тебя интересует?
Ее рука передвинулась с моих губ куда-то к правой скуле. Я зажмурился. Кончиками пальцев она нежно втирала крем мне в кожу. Но ведь Дженнифер никогда не была нежной. По крайней мере, со мной.
– Вот, что я тебе скажу, Сол Адлер.
– Что скажешь, Дженнифер Моро?
– Ты думаешь, мне в жизни больше заняться нечем, кроме как помогать тебе меня разглядеть? Нет, у меня полно других дел.
– Твой любимый цвет – желтый, – в этом я был совершенно уверен.
Дженнифер говорила по-французски с кем-то, кто стоял с ней рядом. А я и забыл, что ее отец был французом и она свободно владела этим языком. Но ее собеседник точно французом не был и отвечал ей с заметным английским акцентом. Голос его был чем-то похож на голос Джека. Мне вдруг подумалось, что они говорят по-французски, чтобы я не понял, о чем идет речь. Но мне все было ясно. Дженнифер объясняла, что поездом любит путешествовать больше, чем самолетом. Потому что в поезд проще погрузить фотоаппараты и прочее оборудование. Человек, что стоял рядом с ней, спросил ее еще о чем-то.
– Да, – ответила она. – Я скучаю по дочкам. Особенно зимой, когда жарю оладьи.
Я приподнял голову с подушки.
– Дженнифер, у тебя что, есть дочери?
– Есть. Обе сейчас учатся в университете.
Она зажмурилась, а мои глаза остались открытыми. И я видел ее ресницы, накрашенные голубой тушью.
– Знаешь, Сол, ты мог бы стать хорошим отцом.
Внезапно мы начали целоваться. Страстно целоваться. Я попытался вложить в этот поцелуй всю свою любовь к ней.
Читать дальше
![Дебора Леви Человек, который видел все [litres] обложка книги](/books/433335/debora-levi-chelovek-kotoryj-videl-vse-litres-cover.webp)