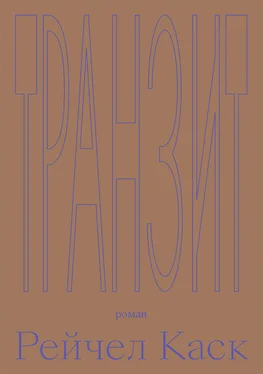На слове «зло» он снял очки и положил их в чехол, лежащий на столе. В очках он был немного похож на сову. И сейчас выглядел как-то совсем иначе.
Недавно я думала о зле, продолжила я, и пришла к заключению, что зло – не продукт воли; оно происходит скорее из подчинения. Зло представляет собой ослабление усилий, отказ от самодисциплины при столкновении с желанием. Это своего рода состояние страсти. Я рассказала ему о Тони и о том, как он спустился к соседям. Тони, я уверена, испугался: разговаривая с троллями, он не мог ни противостоять им, ни контролировать их, но вместо этого вдруг попытался утихомирить их, воспроизводя их же ненависть, а затем решил представить мне свое фиаско как волевое решение и даже героизм. Но часть его, я видела, запомнила то, что тролли говорили обо мне. Я поняла, что сопротивляться злу можно, но, оказывая сопротивление, ты действуешь в одиночку. Ты побеждаешь или проигрываешь, но только как отдельный человек. Ты рискуешь всем, и, пожалуй, сказала я, зло можно победить, только принеся в жертву собственное я. Но проблема в том, что ничто не доставит твоим врагам большего удовольствия.
Он улыбнулся и взял меню.
Звучит так, будто ты уже взялась за дело, сказал он.
Он спросил, что я буду есть, и попросил официанта сразу принести нам два бокала шампанского. Ресторан был маленьким и тускло освещенным: мягкость света и мебели, казалось, притупляет остроту того, о чем я пыталась сказать. Странно, сказал он, что мы так долго не могли встретиться: прошел почти целый год с того дня, когда наш общий приятель быстро представил нас друг другу. С тех пор он несколько раз спрашивал у него мой номер телефона, ходил на вечеринки и ужины, куда, как ему говорили, должна была прийти я, чтобы убедиться, что меня там нет. Он не понимал, почему наш общий друг всё никак не хочет связать нас напрямую и есть ли в этом какой-то расчет. Так или иначе, что-то ему препятствовало; наконец он снова, сам не зная почему, попросил нашего общего друга дать ему мой номер и получил его.
Я сказала, что нынешнее бессилие изменило мое представление о том, что происходит в моей жизни и почему, до такой степени, что я начала видеть за чередой событий то, что другие люди называют судьбой, будто жизнь – это чтение, и с каждой страницей ты узнаешь, что случится дальше. Эта идея, согласно которой твоя жизнь – что-то уже прописанное, кажется поразительно соблазнительной до тех пор, пока не осознаешь, что такая позиция сводит людей вокруг к статусу персонажей и маскирует их способность причинять вред. И всё же иллюзия особой значимости событий возникает снова, как бы ты ни сопротивлялся: например, к детству, сказала я, мы относимся скорее как к пояснительному тексту, нежели как к формирующему нас опыту бессилия. Долгое время я думала, что только через абсолютную пассивность можно узнать, что тебя ожидает. Но мое решение вмешаться в ход событий и затеять ремонт в доме разбудило другую реальность, я будто потревожила спящего в берлоге зверя. По правде говоря, я начинаю испытывать гнев. Я начинаю хотеть власти, потому что, как я сейчас поняла, у других людей она всё время была, и то, что я называла судьбой, было всего лишь отзвуком их волевого решения, сценарием, написанным не каким-то универсальным рассказчиком, но людьми, которые уклоняются от правосудия до тех пор, пока вместо смирения не встретят сопротивление.
Пока я говорила, он смотрел на меня своими глазами странного оттенка, которые напоминали мне торф или землю и казались по-детски беззащитными, как будто, сняв очки, он снял с себя защитный слой зрелости. Я увидела, что на столе стояли тарелки с едой, но не могла вспомнить, чтобы официант приносил их. Он сказал, что его поразило мое упоминание гнева: это библейское слово, и оно отсылает нас к праведности, но он всегда думал, что гнев – самое загадочное и опасное человеческое чувство именно потому, что у него нет четкой нравственной характеристики.
Его отец, сказал он, любил в свободное время мастерить что-нибудь руками: в саду был сарай, и отец сделал там мастерскую. В ней был идеальный порядок, каждый инструмент висел на предназначенном ему гвоздике, разного размера резаки были всегда наточены, гвозди и гайки – рассортированы на полке по размеру. Таким образом, его отец всегда мог выбрать подходящий под задачу инструмент, и его личные качества – среди которых был и ужасающий, непредсказуемый гнев, и непоколебимое чувство чести, – казалось, тоже были разложены по полочкам в ожидании, когда они ему понадобятся. Гнев он применял с особой взвешенностью, и его контроль над собой казался намного более пугающим, чем сам гнев, потому что гнев трудно контролировать; или, скорее, если человек может контролировать его настолько, что способен решить, как и когда его проявить, то это можно трактовать как грех.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу