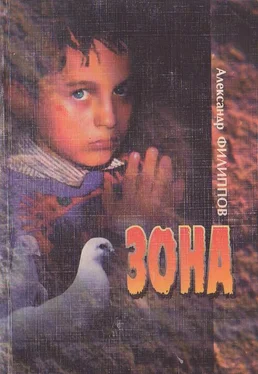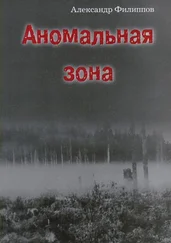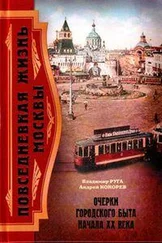Дед схватил Мартына сильными пальцами за голову, рванул и протянул мне обезглавленное трепыхающееся тельце. Тонкая струйка крови стекала в пыль, сворачиваясь там черными комочками.
— Не хош? Ну, тада не говори, что я у тебя его отобрал… — усмехнулся дед и, широко размахнувшись, забросил мертвого голубя далеко в заросли травы у забора колонии. Под ногами, на забрызганной кровью пыли валялась черная головка Мартына, и на тусклые глаза его наползала мутная, голубоватая пленка.
— И ничего вы мне с папаней твоим не сделаете, — прошептал дед. — Это вам не тридцать седьмой год, энкаведе сраное!
Круто повернувшись, старик зашагал, припадая на скрипящий костыль, а я стоял неподвижно и чувствовал, как по лицу моему бегут злые слезы.
— Гад! — завопил я и, схватив с земли кусок битого кирпича, швырнул в удалявшегося деда. Кирпич шлепнул старика между лопаток. Дед остановился, повел плечами и, обернувшись, покачал головой:
— Нехорошо… А еще пионер! — сказал он грустно и заковылял со двора.
Возле сараев я вырыл ямку, положил в нее Мартына и присыпал сухой бурой землей.
Потом отыскал две щепки, связал их бечевкой и зачем-то воткнул в холмик маленький крест.
Мне кажется теперь, что тогда и зимы были холоднее, свирепее, и сугробы — выше, темнее, а синие вечера — длиннее, и переходили они в ночь, эти вечера, трудно, не сразу обрываясь вместе с погасшими людскими окнами, а тянулись медленно, уныло, но какая прелесть была в этих вечерах!
Весь день бледное, призрачное, похожее на раннюю зимнюю луну солнце висело где-то над горизонтом и скользило вровень с далеким лесом, не поднимаясь выше над нашим домиком и полем перед ним — серым полем с торчащими из-под снега мертвыми травинками, заледеневшими кустиками и голыми, продуваемыми насквозь одинокими деревьями.
Во второй половине дня солнце, и без того едва видимое, уходило за такое же серое, как и поле, снеговое небо. Как бы нехотя, медленно ворочаясь, просыпался ветер и начинал задувать — вначале чуть слышно, почти неощутимо, а потом все усиливаясь и переходя в монотонный, наводящий тоску и сонливость свист. Поднималась поземка, и ветер слизывал сухой мелкий снег и нес его куда-то далеко в степь, засыпая попавшиеся на пути овраги, заборы и оставшиеся на местах бывших бахчей заброшенные остовы шалашей с пучками забившегося меж прутьев сена.
И когда наваливалась тьма, то не видно становилось ничего вокруг, только ветер свистел и метался в пустынном и безлюдном пространстве, перегоняя с места на место ломкие кустики перекати-поля. И не похоже это было на ночь, потому что ночь зимой холодна и спокойна, а вечера — тревожны, и, когда ветер к утру стихал, казалось, что вот уже и наступит сейчас ночь в своем ледяном звездном величии — но поднималась темная, хмурая заря и начинался новый день…
В такие ночи особенно тоскливо выл Налет — на редкость злобный для собак его породы рослый кобель — гончак. Отец снова запил, ему было не до охоты, а кобель рвался на цепи, скучал по вольному снегу, по стремительной гонке за бурым русаком, когда после гулкого выстрела можно вцепиться в быстро остывающую тушку, а потом, хрипя от злости и усталости, хрупать крепкими челюстями длинную заячью ногу — награду за удачный гон.
Часто Налет пропадал. Он срывался с цепи и уходил, перемахнув через полутораметровый забор. Возвращался спустя два-три дня, голодный, изгрызенный псами. Сторонился отца, ко мне относился равнодушно и лишь при виде мамы, которая кормила его, оживал, нетерпеливо повизгивал и тянулся мордой к пахучему вареву. Ел жадно, торопливо и много…
Отец переставал пить и вновь становился прежним — умным, замкнутым и немного язвительным. Только иногда на лицо его набегала тень, и тогда казалось, что он прислушивается к чему-то внутри себя, что неизлечимая болезнь гложет его, и хотя близкие только догадываются об этом, но онто знает, чувствует, что болезнь — страшная, опустошающая — затаилась только до поры. Наступит час, и она прорвется, захватит железной рукой и сердце, и душу его, и не властен будет он над собой, над разумом своим и поступками…
Мне, мальчишке, отец подарил ружье — легкую, красивую одноствольную «тулку» шестнадцатого калибра.
— Не будешь чистить — отберу! — предупредил он, и как чистил, как драил я свое ружье! И стоило только взглянуть сквозь дуло на лампочку, как оно загоралось, сияло ослепительным блеском, и хотелось тут же зажмуриться от сконцентрированного зеркальными стенками ствола света.
Читать дальше