Звеньевой, однако, ошибся. Откатчик Жартовский, выкатывая свою нагруженную вагонку из забоя, видел, как Ткаченко и Гришин при свете вспыхнувшего факела глядели зачем-то в потолок выработки. Увидеть этот потолок он тогда не успел, его скрыла стена штрека. А теперь, вернувшись с опорожненным коппелем, любопытный парень направился к звеньевому, задрав голову вверх:
— Що там такэ, дядьку Ткаченко?
«Дядько» хотел было на него просто прикрикнуть, но затем хохляцкая склонность к затейливым ответам взяла в нем верх и звеньевой сделал вид, что тоже всматривается в темноту потолка:
— Понимаешь, хлопче, напысано там щось…
— Напысано? — изумился тот, — що ж там напысано?
— А то, что нечего рот по-дурацки разевать! Иди к своему коппелю!
— Вже й спытаты не можна… — обиженно пробурчал хлопец.
Он подошел к своей уже нагруженной вагонке и легко стронул ее с места. Не то что немолодой, страдающий одышкой, белорус. Помогала тут ему, впрочем, и злость на незаслуженно накричавшего звеньевого. Сам же сбил человека с панталыку, а потом — «нечего рот разевать…». Но Ткаченко тоже, видимо, понимал, что накричал на работящего парня зря. Он догнал вагонку Жартовского уже на выходе из забоя и подцепил на нее свой факел:
— На ось! А то еще хребты один другому на уклонах переломаете… — Факелы на вагонетках в неосвещенных подземных ходах выполняли не только роль фар и источника света на случай возможных аварий в пути, но и заднего света. Впрочем, в коротком штреке к девятой, да еще при откатке всего двумя вагонками, достаточно было и одного факела, подцепленного на коппель откатчика Зеленки. Второй факел был сейчас не столько необходимостью, сколько знаком примирения.
Работа в забое шла уже полным ходом. Интеллигентская часть звена — вечно спорящие между собой бывший литературовед Михеев и бывший капитан дальнего плавания Коврин — подхватывали прямо руками и забрасывали в вагонетку увесистые глыбы. Высокая образованность не мешала им быть сильными и сноровистыми работягами, что, впрочем, являлось скорее исключением, чем правилом. На подхвате у них стоял Прошин — бывший мастер-штукатур. Почти каждый тяжелый камень он провожал шутками-прибаутками, которые и в самом деле помогали делу, хотя и не всегда отличались особым остроумием.
— Этот моему прокурору на башку, а этот вашему… — покрикивал Прошин, сталкивая на дно вагонетки здоровенные камни.
Объединенные общностью судьбы и местом в бараке, Михеев и Коврин были весьма разными людьми не только по своим профессиям в прошлом. Еще больше они отличались друг от друга характерами и строем мышления. Бывший специалист по классической западной литературе был склонен к философическому гонору и цитированию печальных высказываний мыслителей-пессимистов. Человек суровой профессии, но тоже весьма начитанный и образованный, Коврин считал пессимизм либо рисовкой, либо человеческой слабостью. Апологеты пессимизма, говорил он, становятся по-настоящему последовательными людьми лишь с того момента, как удавливаются в ими же завязанных петлях. До этого их следует считать либо трепачами, либо безвольными нытиками. Почти все беседы на философские темы между приятелями так или иначе затрагивали эту проблему. Впрочем, длительными такие разговоры никогда не были. Так, несколько слов во время перекура или перед сном в бараке. Здесь была каторга, а не тюремные нары.
Михеев угодил в лагерь еще в тридцать восьмом. На одной из своих лекций он, хотя и вскользь, назвал Андре Жида «совестью Франции», употребив прозвище, данное этому писателю его соотечественниками. В достаточно большом ходу оно было и у нас, до тех пор пока «совесть Франции», погостив в Советском Союзе, не отплатил ему за гостеприимство черной неблагодарностью. Путевые заметки Жида, хотя их, конечно, никто у нас не читал, полагалось именовать теперь не иначе как злобной клеветой и пасквилем на советскую действительность. Михеев же этого не сделал. В результате доноса одного из своих слушателей он получил семь лет заключения в ИТЛ. Этот срок подходил бы уже к концу, если бы не приказ всех осужденных за контрреволюционные преступления задержать в лагере до конца войны.
По тому же пункту «контрреволюционная агитация» был осужден и бывший моряк, хотя уже значительно позже, на втором году войны. Он «восхвалял» холодильные машины своего парохода-рефрижератора, сделанные в Германии. В военное время пункт об агитации, да еще в пользу врага, котировался даже выше, чем в єжовщину, и потянул на целых десять лет. Впрочем, строгость, с которой советские карательные органы подошли к обоим агитаторам, была вызвана не столько их контрреволюционной деятельностью, сколько сомнительным классовым происхождением. Один был сыном священника, другой — царского морского офицера.
Читать дальше
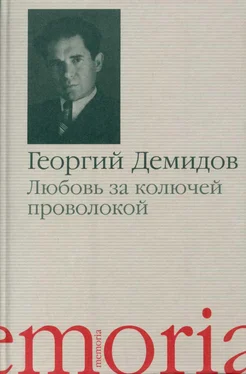
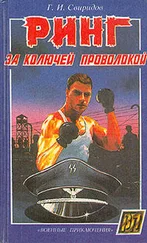
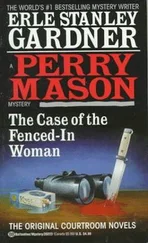


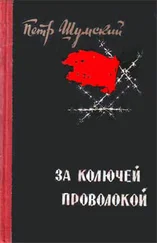
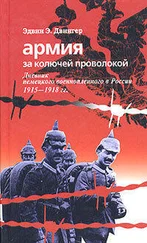
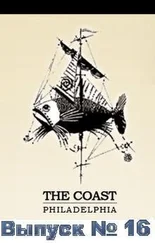
![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)