Для второго участка, которому в этом году сильно не фартило и жилы попадались все больше бедные, новая промзона была главной надеждой на выполнение плана по кондициям, без которого все остальные показатели ломаного гроша не стоили. Срочное расширение фронта работ в Девятой находилось в центре внимания не только участкового, но и рудничного начальства.
Для всякого, кто мог сопоставить количество труда, затрачиваемого на колымских оловянных рудниках с его результатами, становилось очевидно, что добываемый здесь «второй металл» вряд ли уступал по себестоимости металлу «первому», как называли в Дальстрое золото. Но олово действительно было тогда стратегическим металлом, без которого не может быть ни танков, ни самолетов, ни автомобилей. За его ценой не стояли, даже если этой ценой являлись человеческие жизни. Тем более жизни людей «третьего сорта», всяких там уголовников и врагов народа.
Невыполнение плана приравнивается к государственному преступлению, тогда как за добытый в установленном количестве металл выдаются ордена. Победителей не судят, и с них не спрашивается, на каком количестве крови замешено исторгнутое из недр гранитной горы драгоценное сырье.
Карбидка, факел и аккумуляторка Гришина осветили высокие груды отбитой взрывами породы под стенами выработки.
— Хорошо взяло! — удовлетворенно произнес взрывник. — И примазка, кажется, хорошая… — Он поднял из кучи большой кусок темно-серого гранита, на одной стороне которого, как масло на куске черного хлеба, матово белел кварцит. В слое кварца, густо вкрапленные в него, сверкали черные кристаллы касситерита. Крупные, напоминающие хорошо отшлифованные драгоценные камни, они были по-настоящему красивы.
Но Гришин был здесь единственным, кто мог позволить себе любоваться примазкой, у остальных для этого не было времени. Работяги сразу же принялись за дело. Побыстрее расширить перспективный забой можно было только за счет интенсивности труда. Для подобных случаев на каждом участке рудника и существовали бригады типа арутюновской. Их называли то «стахановскими», то «ударными бригадами двух-сотников». В сущности это был еще один вид здешней «лжи во спасение». Но на этот раз она была организована с дозволения и поощрения местного начальства, как производственного, так и лагерного, и называлась стахановским движением среди заключенных.
Дело в том, что при существовавшей системе наказания голодом за трудовую нерадивость почти все работяги-лагерники быстро и неизбежно становились дистрофиками. При помощи приписок, святой «туфты-матки» этот процесс удавалось несколько замедлить, но предотвратить было невозможно. Идиотская с точки зрения интересов производства система была придумана не здесь, а верховным лагерным командованием, и критика его распоряжений была сродни контрреволюции. Но обойти эти распоряжения пытались всегда, хотя бы в мелочах.
Организацией стахановских бригад достигалась двоякая цель. Производственные участки получали надежные и хорошо организованные рабочие группы, на которые можно было положиться в ответственных случаях, лагерное же начальство — своего рода пример и образец для остальных заключенных: «Что, рот большой, а пайка мала? Нормы, говоришь, невыполнимые? А как же в бригаде Арутюнова эти нормы на двести процентов выполняют?» Это был более близкий и понятный пример, который срабатывал даже лучше, чем обычная ссылка на ленинградских рабочих, которые сто двадцать пять грамм хлеба в день получают, да работают!
Конечно, все понимали, что длительно выполнять лагерные нормы не то что на двести, а даже только на сто процентов никто не в состоянии. Здесь, конечно, была приписка. Незнакомого с лагерными секретами наблюдателя могло удивить другое — как на фоне всеобщей доходиловки две или три бригады интенсивно работающих заключенных умудряются месяцами и даже годами сохранять довольно высокую работоспособность? Даже двойной лагерный паек «первой категории» едва покрывал затраты физической энергии при четырнадцатичасовой рабочей смене. Выдерживать такой режим работы можно было не больше одной недели в месяц. Всякая туфта имеет свои пределы.
Все становилось на свое место только при постижении главного принципа организации таких бригад. Работяг в ударные бригады набирали по признаку достаточно высокой работоспособности и дисциплинированности и держали в них только до первых признаков падения этой работоспособности. Если и в любой бригаде бригадир мог отчислить нежелательного работягу, то в стахановской и подавно — не соответствует-де данным, обязательным для почти постоянного выполнения двойных норм! И поди докажи, что ты не верблюд, если на тебя перестали работать карандаши бригадира и его приятеля нормировщика! Делать этого, конечно, никто из отчисляемых даже и не пытался, хотя перевод в рядовую бригаду являлся для них драматическим событием, обычно означавшим начало конца.
Читать дальше
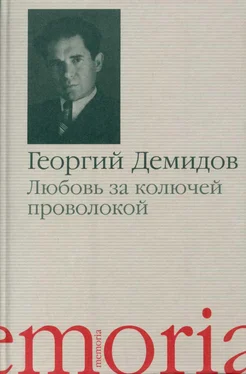
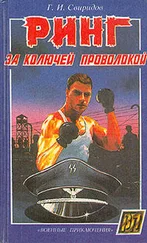
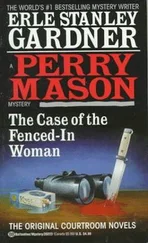


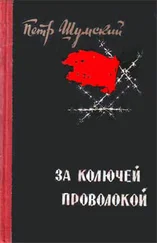
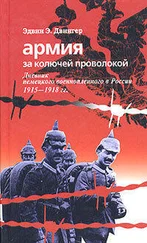
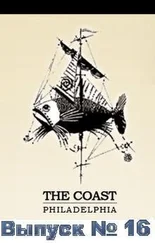
![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)