Сегодня утром в троллейбусе пел ребенок. Не Робертино Лоретти. И не «Санта Лючию». Так, что-то такое: ля-ля-ля, — задумчиво и деловито. Было совсем еще рано. Все были сонные. Поэтому никто ему не внимал, не приставал с дурацкими взрослыми разговорами. Мать сонно молчала, не слыша его, да и сам он едва ли слышал, едва ли сознавал себя. Он пел и, умолкая на мгновение, пальцем и дыханием проделывал дорожки и ямки в мохнатом инее морозного стекла. Он пел, голубое и желтое расплывалось в его прищуренных глазах — голубой рассвет и желтые фонари, в инее вспыхивали острые искорки. Люди, покачиваясь, дремали. И только чистое «ля-ля-ля» веяло над всеми нами.
Это утреннее впечатление разбудило во мне горечь. Горечь, досаду, злость? На что, на кого? На себя? «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Было дано — и не осуществилось. Сквозь пальцы ушло. Было явлено. И ушло, не стало.
Боль была мгновенной и отпустила. Осталась грусть. Просто грусть, в которую может обратиться все на свете, потерявшее остроту.
…Случай давно уже разобран с коллегами. Криминала, как говорится, нет. Напротив. Ну, ассистент замешкался малость. Даже с космонавтами случается. Лучше бы я, однако, вместо него поставил нашу Марию Ивановну с ее средним медицинским образованием и больными отекающими ногами. Но я не господь бог, чтобы все предвидеть. Да и как выразить недоверие к равному мне по возрасту и опыту коллеге? И один ли он виноват? Где мера каждого в совместной вине? Возможно, мы на день-два запоздали с операцией. Или, напротив, поторопились. Впрочем, какое «поторопились» — едва-едва успели. Хирург на сложную операцию идет, как у древних полководец на битву, взывая ко всем богам и прислушиваясь к их голосу в себе. Я же в ту пору плохо чуял эти смутные голоса. Еще и то сошлось, что был я уже новоиспеченным заведующим в старом роддоме. Уговорили, и я согласился. Конечно, проводил и консультации, и операции, и на сложные роды меня звали. Но это уже не главное было. Главным были стены, потолки, крыша, операционные, туалеты. Стены мокли. Трубы то забивались, то текли. Младенцы болели — антисептики оказывались бессильны, и легче было менять заведующих, чем крыши, стены и трубы. Каждый день что-нибудь отказывало: водопровод, канализация, электропроводка. Ходил в горздрав, в исполком, в горком — уши затыкали: «Вы что, смеетесь? Только что был ремонт! Капитальный! Увольняйте кого хотите! Берите кого сочтете нужным! Но не ремонт!»
Никого не уволил. Вызвал сестру-хозяйку и велел завести аварийный журнал. Потолще. Ежесуточный.
«22 марта — забит и не работает унитаз на первом этаже».
«23 марта — потекла канализационная труба в операционной».
«24 марта — не работает унитаз на втором этаже».
«25 марта — короткое замыкание на первом этаже».
Две общих тетради в коленкоровых обложках такого вот содержания положил я через несколько месяцев на стол секретаря горкома партии. И получил и освоил настоящий капитальный ремонт. И новейшее оборудование выбил.
Но это после. А тогда в самом разгаре были бои местного и стратегического значения.
И обычных забот никто с меня не снимал. Каждый день ровно в восемь — пятиминутка. До этого — ля-ля: «разделили с сыном квартиру», «он мне сказал», «я ему сказала», «выгнала мужа», колготки, дети, пьянка, базар, мясо. А в столе приемничек, чуть слышный. Но едва начнет пикать восемь, вкручиваю на полную громкость. Тогда уж, кто не успел, бегут, на ходу завязывая тесемки, — только бы ногу поставить в дверь. И — оперативка, которая, конечно, ни в какие пять минут не укладывается, хотя лишних слов не тратят. Докладывает дежурный: столько-то поступило, столько-то родили, столько-то в родах. Докладывает старшая детского отделения: столько-то младенцев, синел — не синел ребенок, как брал грудь, как часто марался, какая попка, какой пупок.
И дальше на полный ход.
— Антон Аполлинарьевич, посмотрите, пожалуйста, мамочку — кровит.
— Антон Аполлинарьевич, у Дягилевой положение плода поперечное. Схватки слабые.
С Дягилевой, значит, надо решать. Первая беременность, ребенок доношенный, вот только лежит не так.
— Нина Андреевна, — говорю я Дягилевой, когда она, морщась от боли, входит в кабинет, — Нина Андреевна, послушайте меня внимательно. Ребенок у вас не головкой вниз лежит, как положено ему, и даже не задиком, а боком. Вам самой едва ли удастся его родить.
Двадцатилетняя Нина Андреевна напряженно смотрит мне в лицо.
Читать дальше
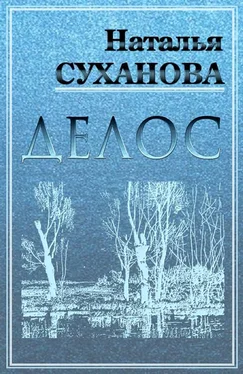







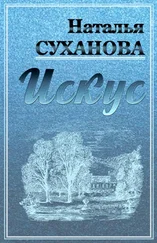
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)