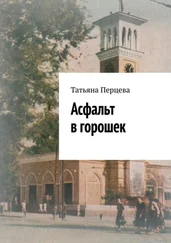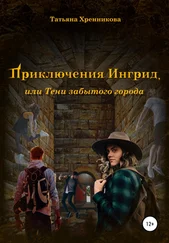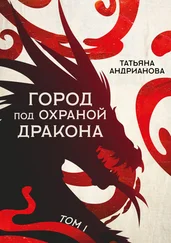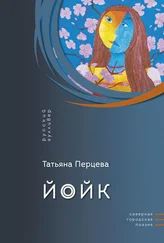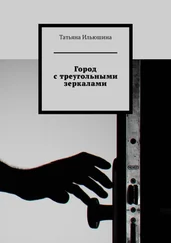Вот уже и снесли наш дом, и Ташкент уже не Ташкент, а захваченный врагами, разоренный город, но мне все снятся, снятся те улицы, те деревья, те дворы…
Дом наш действительно был необычным. Никогда я не видела, чтобы у дома было два двора, причем задним считался тот, который выходил на главную улицу. Дом был обнесен очень красивым забором: кирпичная кладка, деревянные рейки, перемежавшиеся кирпичными столбиками с башенками наверху. И никогда не запиравшиеся ржавые железные ворота. Изначально он строился не как жилое здание. Там размещалась какая-то горная инспекция, и поэтому в квартирах не было прихожих и помещений для санузлов, ванных и кухонь. Позже, в шестидесятом, когда провели газ и воду, пришлось все это устраивать на балконах и верандах, благо места хватало. Говорю же, оригинальный был дом. А до того — удобства на пять кабинок во дворе и летний душ. Да и внутренняя архитектура была крайне хаотична.
Под домом проходил подвал-бомбоубежище. В первом подъезде было всего три квартиры. На втором этаже. Под ними, но не в подъезде, — две: одна двухкомнатная с верандой и крошечная однушка с верандочкой.
За ними шли трехкомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная, все на первом этаже. Еще одна трехкомнатная была как-то на отшибе. Угловая.
Зато во втором подъезде на первом этаже были две крошечных однушки, объединенные крошечным же коридорчиком. И одна громадная комната, вечно полутемная, потому что выходила на задний двор. И там никогда не бывало солнца.
Между этажами висела (именно висела) довольно большая фотолаборатория Александра Васильевича Княжевского. Даже не знаю, как она держалась.
На втором этаже было две трехкомнатных, а посредине две крошечных однушки, объединенных крошечным же коридорчиком. Простите за тавтологию, но тут ничего не поделаешь. Было именно так.
Но самой интересной особенностью нашего дома была полная незалежность. Задолго до наших времен. Сами знаете, как трудно и с какими бюрократическими формальностями давались квартиры. Везде, кроме нашего дома.
Многие обитатели, конечно, квартиры получали в других домах. Но освободившиеся квартиры делили оставшиеся жильцы. Как хотели. Вздумалось Покровским переехать из двушки на первом этаже в трешку на втором — переехали. Вздумалось Могилевским и Моисеевым поделить двушку на первом этаже и присоединить ее к своим квартирам — поделили. И хоть бы хны. Все всем так с рук и сходило.
Наконец, когда семья архитекторов, жившая рядом с нами, распалась, а семье бухарских евреев, очень недолго жившей напротив, дали новую, в обе квартиры переехала большая татарская семья, жившая до этого в той самой полутемной огромной комнате на первом этаже во втором подъезде.
Главой семьи была тетя Фая Токанаева. Вообще, разобраться с фамилиями было трудно: половина семьи носила фамилию Токанаевы, половина — Ахмадеевы. Во времена моего детства еще была жива бабушка — старенькая-престаренькая, но очень добрая, вполне вменяемая и часто ходившая в гости к соседям. Интересно, что жила она у Фаи, самой бедной, работавшей уборщицей, полагаю, в тресте «Средазуголь», иначе почему она получила комнату в нашем доме? Мне рассказывали, что ее сестры были очень зажиточными, повыходили замуж за людей обеспеченных и при хороших должностях. Но мать почему-то сплавили к Фае.
Я помню, как в детстве видела в доме Фаи много почтенных пожилых татар в узорчатых тюбетейках, в зеленых бархатных халатах, с четками, которые, как узнала позже, обычно вывозились из Мекки. Должно быть, они собрались на похороны бабушки, но мне было тогда лет пять и точно сказать не могу. Больше я таких гостей в их доме не видела.
Сама Фая при наличии троих детей замужем никогда не была. Двое родились до войны, и, видимо, бедность и нищета были такими, что дочь Иду и сына Рената она отдала в детдом, где они и воспитывались чуть ли не до совершеннолетия. Осуждать ее за это невозможно. Я и не осуждаю. Просто рассказываю. Уж очень тяжелые были времена, а родные, видимо полагавшие, что Фая опозорила семью, ей не помогали.
Третий ребенок, Равиль, был на два года младше меня, то есть родился в сорок седьмом. Поговаривали, что его отцом был некий узбек, что уже не лезло ни в какие ворота. Традиционная взаимная нелюбовь казанских татар (несмотря на огромное расстояние между Казанью и Ташкентом, татар все равно называли казанскими, прекрасно различая их и крымских татар, которых тоже было немало) была известна всем, что не мешало той и другой стороне влюбляться, жениться, плодиться и размножаться. Тут, видимо, обошлось без женитьбы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
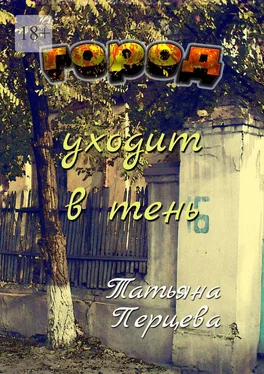
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/30532/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si-thumb.webp)

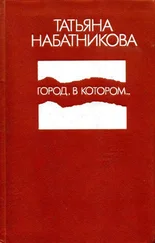
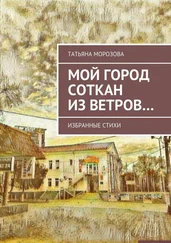
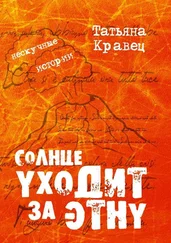
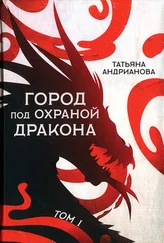
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/410082/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk-thumb.webp)