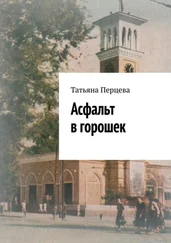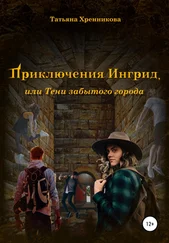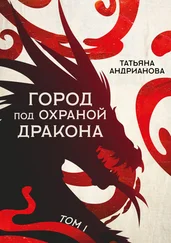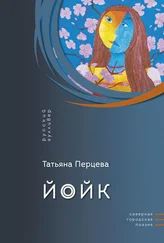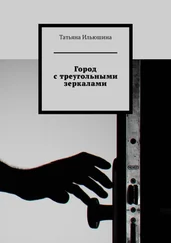Недавно я смотрела американскую комедию 1951 года. У меня просто сердце замирало. От американских машин. Широких, длинных, стильных, элегантных. Помню, как в пятьдесят седьмом году в Москве проходила выставка таких машин. Мечта души моей. Особенно была там одна. Вишневая. Сидишь в такой — королева. Сидела я в мерседесах и ауди… нет. Не королева. В лучшем случае новая русская. Нету шарму. Шарму нету. Не элегантно. Прагматично. Утилитарно. Никакой вам романтики. И хаммер ваш — просто солдафон. Плавали, знаем. В начале пятидесятых у папы моего была служебная машина. Виллис. Иначе говоря — козел, только американский. Особой разницы не вижу, в смысле впечатления. Там козел, тут — очень мощный козел.
А тогда, в пятидесятые, почти во все ташкентские семьи попадали невесть откуда каталоги с этой выставки. Не просто мечта. Хрустальная. Одна — цвета морской волны, другая — вишневая… За прокатиться на такой можно все отдать. Ослепительны.
И поняла я, что пятидесятые были эрой элегантности и стиля не только в автомобилестроении, но и в женской одежде. Есть тут какая-то связь. Я перевидала уйму машин, а моя страсть — те. Винтаж и ретро. Я переносила уйму фасонов, перевидала уйму тенденций, пережила уйму модных взлетов и падений, а той изысканности, что была в пятидесятых, больше не встречала ни разу.
Я не против новых мод, если не считать последних тенденций в виде дырок на всех местах и манеры надевать кеды под вечернее платье, но тем не менее…
И все-таки есть некая таинственная связь между очаровательно старомодными и не менее очаровательно элегантными машинами и сидевшими в них воплощениями женственности. И той же элегантности.
Когда я листаю тогдашние журналы (заметьте: советские) и пособия по кройке и шитью, так и чешутся руки пойти и заказать такое платье. «Легка, воздушна»… это о той женщине, которая, между прочим, пережила войну, недоедала и тяжело работала. А выглядела как королева. И фасоны были сложнейшие! Требующие мастерства и умения.
Искать такие наряды в магазинах было бессмысленно. Там по большей части продавались китайские платья и изделия швейных ташкентских фабрик. Забегая вперед, могу сказать, что потом, в восьмидесятых, платьями, которые я привозила из Ташкента, сшитыми на фирме «Юлдуз», восхищались все мои знакомые. Но тогдашние дамы выходили из положения тремя способами: имели «своих» портних, как моя семья, шили сами или относили в ателье, что было наименее предпочтительно, поскольку часто портили. Да и чего бы не шить! Тканей было не просто море, а чистый океан! И какие ткани! Ни о какой синтетике не то что речи не было, а и слова такого в обиходе не слыхали.
Отряд крепов: креп-жоржет, крепдешин, креп-марокен, креп-шифон, креп-сатин… Файдешин, панбархат, твил, жаккард, маркизет, просто бархат и просто шифон, букле, парча, муар, вдруг в моду вошел штапель, хотя он очень мялся, пике, поплин… Язык устанет перечислять. Про ситцы-сатины даже говорить не стоит.
Помню, как поразилась мама, узнав, что за границей, оказывается, готовые платья куда дешевле сшитых у портних, которые там далеко не всем по карману.
Тогда большим спросом пользовался модный эстонский журнал «Силуэт», но следует заметить, что Московский и Ленинградский дома моделей выпускали свои выкройки и свои буклеты, и нужно сказать, все это было достойно восхищения. В Ташкент, возможно, последние моды доходили чуть позже, но когда меня пытаются убедить, что советские люди одевались серо, убого и носили нечто вроде униформы, на манер китайцев, я отвечаю коротко: наглое вранье. Видели бы вы ташкентских дам! Причем не нужно думать, что городские узбечки одевались исключительно в национальные платья! Дома — да. Но национальные платья носили чаще всего узбечки старогородские и кишлачные. Остальные одевались очень модно.
В начале пятидесятых в моду вошли разлетайки (свингеры по-теперешнему), менингитки, лакированные сумки и туфли на пробке (натуральной). Летом были танкетки на пробке, китайские зонтики и веера, бархатные вышитые китайские сумки. Дефицита не было. Все шили то, что считали модным. Юбки плиссе-гофре были доступны каждому. Правда, они были дорогие. Потому что на них требовалось три объема ткани. Хранили их в чулках. Чтобы не дай бог не помять. Гладить нельзя. Таблички «Плиссе-гофре» висели на каждом углу. Были такие автоматы, которые и плиссировали. Берешь ткань, приходишь… все.
Сначала мучились с резиновыми ботиками, а мужчины и дети — с галошами, ох, ни снять, ни надеть… слава богу, уже в во второй половине пятидесятых изобрели микропорку! Я бы изобретателю памятник…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
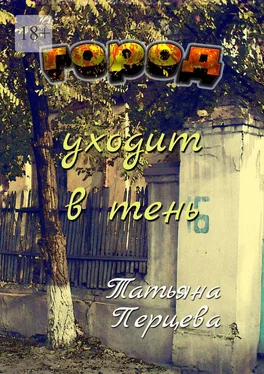
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/30532/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si-thumb.webp)

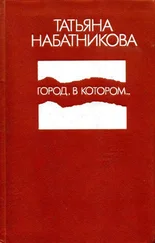
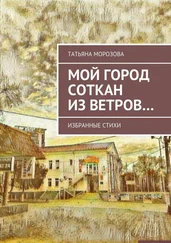
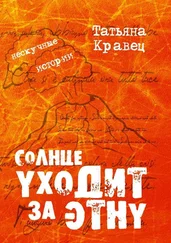
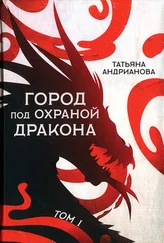
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/410082/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk-thumb.webp)