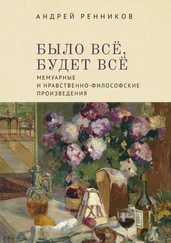«По улице бежит собака,
За ней – Буренин, тих и мил.
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил.»
Эпиграмма острая, слов нет. Но зато наводящая на мысль о дальнейшем развитии этой жуткой картины: впереди собака, за нею Буренин, а за Бурениным – поэт Минаев и целая свора его единомышленников…
Помимо Буренина в области сатирического фельетона работал и другой старый сотрудник Суворина – Вентцель 117 117 Николай Николаевич Вентцель (1856-1920) – поэт, писатель, драматург, переводчик. Печатал фельетоны, рассказы и повести в различных журналах и газетах дореволюционной России. Сотрудничал в газете «Новое время». С 1908 постоянный автор театра «Кривое зеркало».
. Буренин, разумеется, затмевал его. Но Венцеля публика хорошо знала не столько по «Новому времени», сколько по блестящему юмористическому и сатирическому журналу «Плювиум». Этот журнал в общем был правого направления, но без узкой партийности, высмеивая и революционеров, и правящие круги, и буржуазию, не считаясь ни с кем из сильных мира сего. Бывали случаи, когда в редакцию являлись лица, попавшие под обстрел журнала, поднимали скандал или резко требовали объяснений и опровержений.
Чтобы обезопасить себя от таких визитеров, редакция придумала оригинальный план самозащиты. В качестве ответственного редактора «Плювиум» пригласил одного негра, бывшего сначала борцом, а потом швейцаром одной из петербургских гостиниц.
Два раза в неделю, в приемные часы для посетителей, этот негр снимал с себя пиджак, рубашку, и, оголенный до пояса, садился в редакторском кабинете за стол, объявляя секретарю, что прием начинается. Мирных посетителей, обычно приходивших с рукописями, секретарь направлял в боковую комнату, куда на это время укрывался настоящий редактор, a посетителей возбужденных и нервных впускал к негру.
Оскорбленный врывался туда, намереваясь излить на редактора поток бранных слов и внезапно останавливался у порога.
Перед ним за столом возвышалась могучая фигура с блестящей темно-коричневой кожей, под которой зловеще играли мощные мышцы.
– Чем могу служить? – со странным акцентом спрашивал редактор, вставая и расправляя грудную клетку.
– Ничем… – растерянно отвечал посетитель. – Я лучше в другой раз…
Василий Васильевич Розанов
Среди всех старых сотрудников «Нового Времени» наиболее интересной фигурой был В. В. Розанов.
В силу своеобразия своего беспокойного мышления этот оригинальный философ политически не укладывался в определенные рамки и бывал то правым, то левым, смотря по тому, к какому самостоятельному выводу приходил в том или в другом вопросе. Оставаясь всегда честным перед самим собою, он одновременно сотрудничал и в «Новом времени», и в «Новом пути», и в «Русском слове», и в «Русской мысли». И, как ни странно, левые критики не предавали Розанова анафеме за участие в изданиях Суворина. Им казалось, что «основной» Розанов принадлежит именно им. Точно так же, как нововременцы считали его своим. На самом же деле он не принадлежал никому: ни им, ни нам, и даже – ни самому себе, а чему-то вне его, что говорило и писало при помощи его странного мозга.
Рассказывали, что Розанов иногда смешивал редакции, в который давал статьи. Придет в «Русскую мысль» и принесет с собой то, что предназначалось им для «Нового времени» или «Русского вестника». В «Русской мысли» статью прочитывали, морщились и укоризненно говорили: Василий Васильевич, простите… Но это не для нас.
– Ах, да, – спохватывался Розанов. – Совершенно верно. Но ничего: я и для вас напишу.
А иногда наоборот. Придет в «Русский вестник», даст статью, а ему отвечают:
– Вы ошиблись, Василий Васильевич. Это для либералов.
В сущности, определенного стройного мировоззрения у Розанова не было. Было только чуткое иррациональное мироощущение. Его книга «О понимании», логически излагавшая план возможного познания мира путем изучения первоначального строения ума, не внесла ничего значительного в историю классической гносеологии. Но отдельные его прорывы в суть бытия бывали иногда гениальны. Он не умел осаждать тайну мира систематически, упорно, хладнокровно, как это делали прославленные западные философы при помощи дальнобойных орудий своего тяжеловесного мышления; но ему замечательно удавались темпераментные набеги на истину, в результате чего брал он в плен и глубокие мысли и блестящие парадоксы. Его скепсис проявлялся не столько в сомнениях о возможности познания, сколько в сомнениях о ценности рассудочных и научных методов проникновения в загадки мира.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
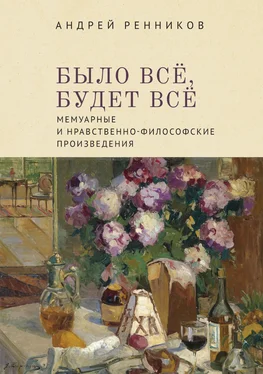
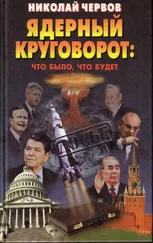

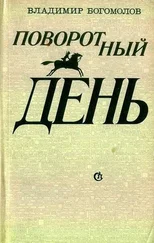




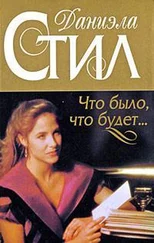

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)