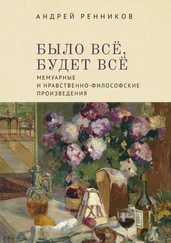И таким именно образом практический рассудок, получившей в области мышления верховное место из-за преклонения культурного общества перед величайшими завоеваниями техники, вызвал пренебрежение и даже презрение не только к умозрительной философии, но и к предельным обобщениям научных теорий.
38. Поиски утерянной красоты
Если в провиденциальном плане спасения человека при помощи духовной культуры философские искания истины пробуждают в нас анамнезис об утерянной божественной истине, то в том же плане художественное творчество во всех областях прекрасного – в поэтическом слове, в музыке, в живописи, в ваянии, в зодчестве – вызывает анамнезис об утерянной божественной красоте.
И если в своих попытках приблизиться к истине философия, в противоположность науке, ищет не единого рассудочного точного знания, а всеобъемлющего многогранного познания, то такого же многостороннего познания потусторонней красоты пытается достигнуть наше чувство прекрасного.
И, как философия в своих умозрительных выводах уходит за пределы рассудка, так и искусство в своем творчестве трактует мир своими собственными познавательными методами, ничего общего не имеющими с рассудочно-научной методологией.
Возникнув на первых ступенях культурной жизни человека, эстетическое чувство развивалось параллельно с развитием материальной культуры, но совершенно автономно, заимствуя от примитивной техники только некоторые ее орудия для своего проявления: костяные, каменные иглы для рисунков, краски, резцы, ножи. Уже в ориньякскую эпоху мы видим первые произведения, указывающая на стремление первобытного человека к прекрасному. Эта эпоха оставила нам статуэтки из камня и слоновой кости, рельефные рисунки. Магдаленская эпоха создала резьбу по кости, художественную отделку рукояток оружия. В старом каменном веке особенно часты графические изображения на стенах пещер.
Помимо археологии указания на стремления к пластически-прекрасному у примитивных народов дает также этнография. У австралийских дикарей мы находим рисунки на скалах, соответствующие фрескам и барельефам; ясную компоновку картин можно встретить у бушменов; все племена на крайнем севере Азии и Америки – чукчи, алеуты, эскимосы – большие любители рисования. Точно так же на первых ступенях культуры встречаются зачатки музыки, не только вокальной, но и более сложной – инструментальной: редко у каких примитивных народов в наше время нельзя встретить барабана в том или ином виде; у австралийцев он делается из шкуры опоссума, у минкопов – из дерева. У Порт Эссингтона у ботокудов есть флейта, труба; у готентотов имеется арфа, сделанная из тыквы с натянутыми на нее струнами.
В общем, восприятие красоты является своего рода потребностью каждого человека, на какой бы ступени культуры он ни стоял. Прекрасное дает радость и дикарю, и утонченному эстету; и негру, бьющему в свой «там-там»; и знатоку живописи, наслаждающемуся картиной старинного мастера; и простому обывателю, любителю венских вальсов, и почтенному археологу, восторженно созерцающему памятник древнего зодчества; и девушке, любовно разглядывающей узор кружев.
Красота – всегда праздник, всегда – утешение, забвение от тревог, возвышение над мирской суетой. Неудержимый зов искусства ощущается всеми. И в тоже время никому не понятен. Откуда такое влечение? Чей голос зовет людей к восторгам перед художественным произведением, к слезам умиления, к горькому смеху, к очищению души – к катарсису?
Все теории происхождения и смысла искусства, основанные на позитивно-рассудочных предположениях, обычно скользят по поверхности основного вопроса, разбирая только одну какую-нибудь сторону художественного творчества или художественного восприятия. «Сущность красоты – целесообразность без цели, без намерения, – говорит Кант. – Чистая красота есть красота, лишенная какого-либо знания в смысле интереса чувств или рассудка». Чувство эстетического наслаждения объясняется «легкостью и свободой упражнения нашей способности восприятия форм». Шиллер пытался сблизить эстетическое удовольствие с удовольствием, получаемым от «игры». Согласно Гете, «поэт обнаруживает себя в воспроизведении реальности, если он умеет различить в обыкновенном предмете интересную сторону». Но без социального момента эта «интересность» в предмете может оказаться вполне субъективной. Такой именно субъективизм проявляет Д. С. Милль, когда утверждает, что «поэт совершенно не думает о слушателе».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
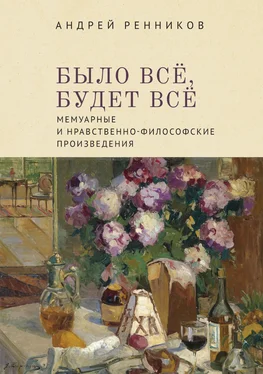
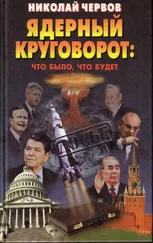

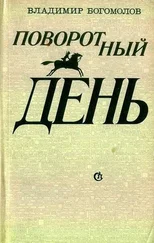




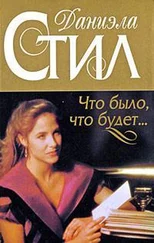

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)