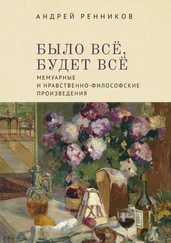Для экзистенциалистов, как и для Ницше, дурно все, что вытекает из слабости; хорошо то, что увеличивает мощь. Христианство – величайшее зло, так как проповедует равенство, любовь и сострадание к слабым. Неограниченный индивидуализм, бескрайное осуществление личной свободы – вот главные вехи экзистенциального отношения к миру.
А всякое теоретическое знание и философское мышление – условно и не дает истинного познания. От понятия к сущности вещей нет дороги. Никакой умозрительной философской системы построить нельзя. Реальная философия состоит только в констатировании фактов, в сознании и утверждении своих ощущений.
Так дошла до низин падения европейская философия к середине настоящего века. На востоке – насильственный оцепеневший материализм, пресекающий все зарождающиеся течения свободного мышления. На западе – добровольный моральный интеллектуальный и религиозный нигилизм…
И все грандиозные былые попытки философии проникнуть в сокровенную тайну бытия, прикоснуться познанием к кантовской запретной «вещи в себе и для себя», сменились в наше технически-машинное время низменным обоготворением реально-доступной «вещи для нас».
15. Характер современного скепсиса
Разумеется, по декадансу эйнштейнизма или по экзистенциализму Сартра нельзя судить о том, что современная наука и современная философия являют собой полную картину безнадежности. Больших выдающихся ученых в научных дисциплинах встречаем мы и в наше смутное время. Философская мысль продолжает достойно работать в замкнутых академических кругах. Но все это не доходит до широких масс современного культурного общества. Со времен прошлого века исчезла та общественная элита, которая чутко откликалась на прогресс теоретической научной и философской мысли.
Происшедшая социальная перестройка, поднявшая вверх низшие демократические слои, значительно ослабила интерес общества ко всему отвлеченному, не имеющему практически-реального отношения к жизни. Здравый смысл, опирающейся на наивный реализм, утверждающий неопровержимость единственно истинного, конкретно ощущаемого мира, стал все более и более увеличивать равнодушие культурных масс к ухищрениям отвлеченной науки, к оторванным от жизни построениям философской мысли.
И главную роль в подобном процессе сыграла техника. Это единственное достижение человеческой мысли, которое всегда победоносно идет вперед, не испытывая колебаний и уклонений, не несет в себе противоречия идей, не разрушает своих основ, чтобы заменить их другими, не вызывает горячих дискуссий и споров. Все новое, что создает техника, не противоречит старому, но ее только дополняет, привлекая в круг своих завоеваний новые плодотворные области.
И что по сравнению с нею для культурного обывателя все другие построения мысли, все эти метагеометрические понимания пространства, все эти теории эволюции, все эти споры о самопроизвольном зарождении, все методы самонаблюдения или эксперимента над гипотетической человеческой душой?
Из всего того, чем обладает теоретическая наука, единственно неоспоримыми всегда остаются только те дары, которые она приносит технике. Научные теории могут сменять друг друга, заменяться противоположными; но телескопы, микроскопы, спектроскопы, микрометры, манометры, микрофоны, вольтаметры – остаются незыблемыми.
И существует ли на самом деле мировой эфир, или нет, это гадательно. Но что существует эфир, весьма полезный для медицины, в этом нет никакого сомнения.
Конечно, скепсис по отношению к идеям отвлеченного мышления в наше время обязан своим происхождением не только преклонению перед успехами техники, но и общему опрощению мысли в этот практический век. Вспышки скептицизма, как известно, бывали в истории европейской культуры и в древности, и в начале новых веков. О своем разочаровании в способностях разума еще до нашей эры говорили скептики, в лице Пиррона, Карнеада и Секста Эмпирика; они «ничего не утверждали, не утверждали даже того, что ничего не утверждают». Пиррон в силу этого звал к «атараксии», к невозмутимости, к полному равнодушию ко всякому знанию. Много столетий спустя, Монтень восстановил этот скептицизм стоически-эпикурейского типа, задавая себе безнадежный вопрос: «Что я знаю?» Еще много времени после него к скептицизму пришел и великий философ Юм, сводивший принцип причинности к простой привычке при повторении одинаковых случаев и отрицавший возможность как-либо доказывать существование Бога и бессмертие души. По отношению к способностям разума был скептиком также и Кант.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
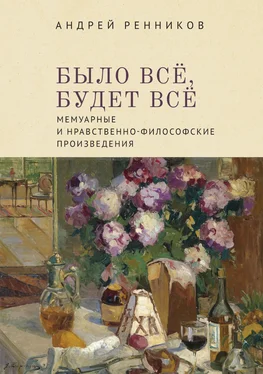
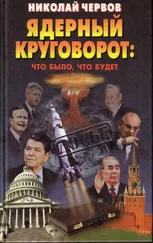

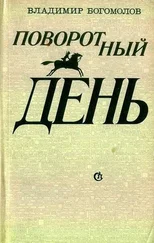




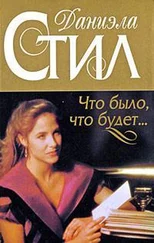

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)