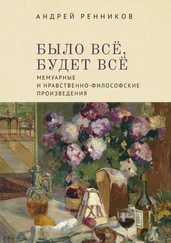Хотя основные принципы современного демократизма появились уже со времен реформации, однако полного развития это социальное мировоззрение достигло в конце XVIII и в XIX веке. И, при своей «научной» разработке, к сожалению, подверглось сильному влиянию материалистического естествознания. Научность требовала рассматривать общественные коллективы и группы, как упрощенные модели соединенных единиц, действующих согласно атомистической теории и принципам математической трактовки мира. Верховная воля стала пониматься как центр тяжести голосующих атомов; равенство граждан – как изоморфизм, как равенство атомного веса определенных химических элементов; свобода – как возможность для атома самостоятельно выбрать любое направление в пространстве.
И естественно, что свобода и равенство, как основы демократического мировоззрения, подвергались тщательному изучению и истолкованию с разных сторон. Со времен пуритан уже начал ставиться вопрос о свободе, как о конституционной гарантии. И уже с Д. Локка сколько появилось исследователей этой проблемы! Пуфендорф, Блэкстон, Гамильтон, Джефферсон, Прево-Парадоль… и так далее, – сотни, если не тысячи имен до нашего времени.
Наиболее трудной задачей в этой области оказался, конечно, вопрос о границах индивидуальной свободы. Руссо считал необходимым во имя общего блага ограничить свободу индивидуума путем «общественного договора». Кант полагал, что в конституционном государстве гражданская свобода должна быть введена в строго определенные законом рамки. Конт предполагал в «позитивном» периоде человечества такое «гармоническое объединение умов», что вопрос об ограничении личной свободы ради коллектива для него решался сам собой. Гегель считал необходимым подчинить свободу обществу; Ницше, наоборот, давал личности полную свободу. В крайность индивидуализма ушел и Лев Толстой, для которого личная свобода вне государства дает высшую ступень существования – христианское сожительство людей.
И между Гегелем и Ницше, между Фейербахом и Толстым – бесконечное количество промежуточных толкований проблемы. Наши славянофилы, Достоевский, В. Соловьев, ставившие личность выше общества, старались примирить оба начала. Например, Соловьев, возражая Толстому, указывал, что в форме общественности исторически можно прийти к идеалу, сочетая свое совершенствование с общим прогрессом. По его толкованию, «общество есть дополненная или расширенная личность».
Точно также, как в вопросе о гражданских свободах, мы имеем бесконечное количество противоречивых мнений и в определении понятия равенства.
Материалисты и примыкавшие к ним позитивисты, пытавшиеся свести человеческие коллективы к механистическому скоплению атомов, конечно стояли за полное равенство людей, независимо от их личных качеств. По их мнению, как для распространения света не важна индивидуальность колеблющейся частицы эфира, так и для осуществления чистого демократизма не существенно, кто колеблется перед избирательной урной: гений или идиот.
Разумеется, это примитивное понимание равенства социальных единиц вызывало немало обоснованных возражений. Например, Бугле 301 301 Селестен Шарль Альфред Бугле (Celestin Charles Alfred Bougle; 1870-1940) – французский социолог.
, написавший о равенстве четыре обстоятельных отдельных труда, никак не мог окончательно решить: нужно ли применять ко всем абсолютное равенство, или можно допускать иногда равенство «пропорциональное»? Со своей стороны, знаменитый немецкий юрист и государственный деятель Блюнчли требовал, чтобы для народного представительства глава семьи имел не один голос, но несколько, в зависимости от числа членов семьи. Лассар предлагал дать голоса всем: не только мужчинам и женщинам, но детям, подопечным и даже сумасшедшим, чтобы эти голоса получали лица, их представляющие.
Но, если признать, что главы различных семей имеют неравное число голосов, то не пойти ли дальше? Не принять ли во внимание не только плодовитость, но ум, опыт, порядочность?
В этом смысле представитель английского либерализма философ Джон Стюарт Милль высказывался вполне определенно. По его мнению, люди не равны в степени своей гражданской ценности. Интеллигентность должна давать преимущество в голосе. Некоторые профессии могут предоставлять право на добавочные голоса. А шотландец Лоример установил для применения подобного неравного равенства даже целую систему градаций, в зависимости от культурной ценности личности, причем максимальное количество голосов у него не должно превышать числа 25.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
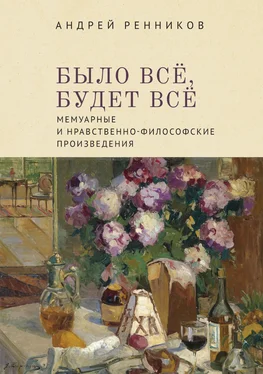
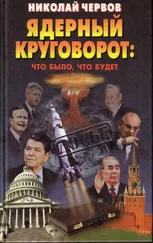

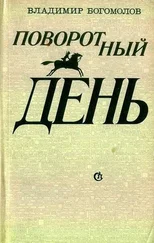




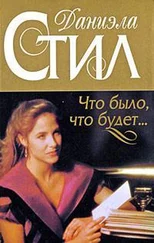

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)