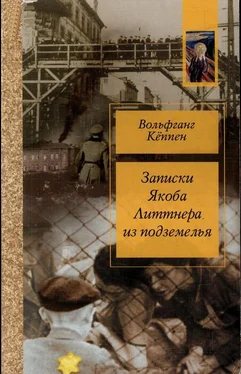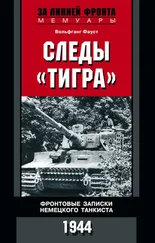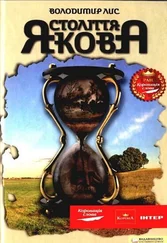Сегодня я получил от него два письма разом, и скорби моей прибавилось. Вот эти письма: «Варшава, 7.5.42. Дорогой отец! Получил твое письмо, а также деньги, за что сердечное тебе спасибо. Ты и не представляешь себе, отец, в каком положении мы были, когда получили твое письмо. В тот момент уже три дня как у нас во рту не было — буквально — ни куска, мы уже чувствовали приближение голодной смерти. Дорогой отец, мне тяжело обо всем этом писать, но у меня нет другого выхода. Я ведь считал дни, пока придет от тебя ответ. Еще раз прошу: спаси, забери нас отсюда. Мы почти совсем иссохли, потому что уже почти как год не пробовали жира. Поверь, когда я прохожу мимо магазина, меня так и тянет разбить витрину, чтобы схватить хлеб. Если бы ты меня видел, я мог бы не описывать тебе все подробности. Подняться по лестнице у меня нету сил. Хуже всего, что нам негде жить. Мы пристраиваемся то тут, то там, и в довершение к нашему голоду нет у нас и пристанища». «Варшава, 10.5.42. Дорогой отец! Пишу вдогонку еще одно письмо. Может быть, ты все же сможешь забрать нас к себе. Мы с женой готовы делать самую трудную работу. Здесь, в варшавском гетто, пятьсот тысяч евреев, и теперь доставили еще несколько тысяч из Германии и Чехословакии. Ежедневно хоронят по четыреста-четыреста пятьдесят человек. Мертвецы лежат по три-четыре недели на кладбище. Дорогой отец, прошу тебя еще раз из последних сил: спаси нас! Спаси, сделай что можешь — я этого всю жизнь не забуду и буду тебе благодарен».
В программе национал-социализма, говорят, много красивых слов об уважении к семье, об укреплении семейных уз. У нас, евреев, семейные отношения всегда были тесными. Что сказал бы немецкий отец, если бы получил от своего сына такое письмо, как я от своего, письмо, которое я здесь привожу?
Судьба моего сына терзает меня сильнее, чем моя собственная. Я бросаюсь от одного знакомого к другому, но никто не может ни помочь, ни посоветовать. Выезжать из Збаража мне запрещено, да и в варшавское гетто просто так не попасть. В бессилии, в заточении я вынужден издалека наблюдать, как гибнет мой сын. Еда, и без того скудная, застревает у меня в горле, когда думаю о голодающем Золтане, и, даже проработав весь день, я не могу заснуть на своей жесткой постели. Он стоит у меня перед глазами, каким я видел его в последний раз: молодой солдат, готовый сражаться и умереть. А теперь он угасает во цвете лет, бесславно, в нищете. Я не стыжусь своих слез.
От моей невестки пришло письмо: «Варшава, 13.8.42. Дорогой отец! У Золтана, к сожалению, нет сил, чтобы писать самому. Он слишком слаб и пережил ужасные дни, страдая от бесконечного поноса. К тому же все суставы у него распухли. Люди удивляются, что он пережил кризис. Все это от голода. Я сама страдаю той же болезнью, но не так сильно, как бедный Золтан. Когда я посылала телеграмму, температура у него была 41,8. До этого он пролежал четыре недели на лестнице, потому что из-за болезни никто не хотел впускать его к себе в дом. Если бы хоть я была здорова, но я слишком слаба, чтобы писать дальше».
На следующий день, после того как я получил это письмо, евреям было запрещено пользоваться почтой.
Больше я о моем сыне ничего не слышал. Он погиб в аду варшавского гетто.
Мы в Збараже практически отрезаны от остального мира. Но до нас доходят слухи из других мест. Говорят, во Львове был ужасный погром. Спецкоманды СС с особой жестокостью расправлялись с евреями. Уже вошло в обычай требовать от еврейских советов различных городов определенное количество людей на убой, как в военное время скотину. В нескольких местах еврейские советы оказались не в силах предоставить жертвы. Тогда совету приходилось самому идти на расстрел. В других местах советы, наоборот, с готовностью служат мясникам и гонят несчастных, чтобы спасти свою жизнь, которая, как известно, каждому дороже всего.
Преследования с каждым днем ужесточаются. Уже один вид еврея провоцирует СС. Многие из нас больше не отваживаются выходить на улицу.
Брат живущего у нас профессора Гальперна — заместитель старосты еврейского совета. Сегодня ночью нас подняли двое из еврейской полиции. Они потребовали, чтобы профессор пошел с ними в совет; у его брата, сообщили они, очень много канцелярской работы, и ему нужна помощь. Дело, однако, в том, что это известие было условным знаком тревоги, и мы все оделись. Мы с беспокойством ждали возвращения Гальперна. Когда два часа спустя раздался стук в нашу дверь, мы были уже так деморализованы страхом и напряженным ожиданием, что бросились в панике во двор и спрятались там. Дрожа от страха, мы стояли в полной темноте. Неожиданно нас осветил луч карманного фонарика. Один из еврейских полицейских спросил, почему мы убежали, и привел нас обратно в дом. Если мы попытаемся бежать, сказал он, то подвергнем себя серьезной опасности. Постучавший в нашу дверь оказался посланцем профессора Гальперна. Он сообщил, что началась «акция». Хотя мы уже несколько недель ожидали ужасных событий, это известие словно оглушило нас. Со страхом всматривались мы через окно в темноту. Мы видели вооруженных людей в форме, ходивших по улице взад и вперед. То там, то тут вспыхивал фонарь «летучая мышь», и эсэсовцы в блестящих плащах напоминали в его свете привидения. Но они были кошмарнее любых привидений, о которых писали в книгах. Они были великанами-людоедами, пришедшими за своей данью — человечиной. Они были адскими вестниками западной цивилизации двадцатого века.
Читать дальше