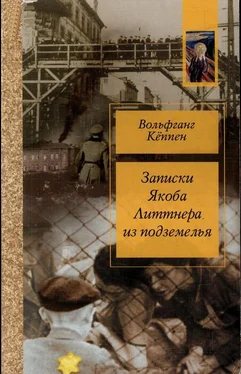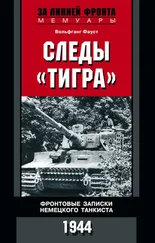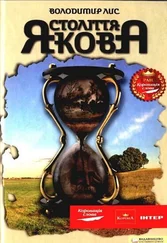Проходит лето, жаркое, красивое лето, лето в чужой стране. Деревья цветут и приносят плоды, но это чужие деревья, чужие цветы, чужие плоды. Бежавших из Германии в Польшу евреев прозвали «у нас». «У нас» — это значит лучше, быстрее, чище, это порядок, «у нас» все работает, «у нас» все идет как надо, «у нас» — это тоска по Германии, даже по Пруссии, это Бреслау, Берлин и Мюнхен, а к тому же легкая надменность и неспособность вызвать симпатию у местных. Я тоже грежу о Мюнхене и об удобном мюнхенском быте, пока не читаю в газетах о новых проявлениях варварства в этой самой стране «у нас».
Я уехал из Бельско-Бяла и перебрался в Краков. Это красивый город со множеством средневековых построек, напоминающих мне одну поездку в Нюрнберг — это было еще до того, как там начались партийные съезды. В Кракове я встретил моего сына Золтана. Из чувства юношеского протеста против фашизма он еще раньше уехал из Мюнхена и вот теперь — а он, как и я, поляк благодаря Трианонскому договору, заключенному еще до его появления на этот свет, где так много национальных государств, — теперь мой сын призван в польскую армию. Я вижу его в форме, симпатичного молодого человека, и еще год назад я бы, наверное, с гордостью сказал: «Он бравый солдат». За это время люди в форме причинили мне столько горя и унижений, что я могу смотреть на моего сына-солдата лишь с печалью, даже если и сознаю, что он призван сопротивляться злой силе, преследующей меня своей ненавистью.
Я пытаюсь устроиться на чужбине. У госпожи Янины я нашел комнату и некое подобие нового домашнего очага. Я завязываю знакомства и надеюсь, что мне, может быть, удастся вновь открыть свое дело, на этот раз в Кракове. Однако Германия не успокаивается, словно закованный в броню великан, она замахивается на сопредельные страны. Чехия пала. Последует ли за ней Польша? Настроение здесь предвоенное. В нашем доме уже проводилась учебная воздушная тревога. Госпожу Янину назначили старшей по убежищу. Ей выдали рожок и большой колокольчик, чтобы она могла поднимать тревогу. Мы очень смеялись. Мой сын был отправлен в полевые части. Мы обнялись на прощание, он вскочил в последний вагон и помахал мне сквозь грязное окно, которое не открывалось. Он тоже вдруг показался мне пленником судьбы. Тяжело было у меня на сердце, когда я видел, как поезд увозит его.
Первого сентября началась война, которую давно ждали. Которая должна была случиться, ужасная война, будь она проклята и благословенна! Будет ли это война Гитлера против мира или мира против Гитлера? В пять утра нас разбудил вой сирен. Это было всерьез. Теперь нам будет не до смеха. Госпожа Янина даже не успела воспользоваться рожком и колокольчиком. Проходил час за часом, а мы оставались в бомбоубежище. Мы сидели в подвале, за толстыми стенами которого, как нам хотелось надеяться, можно было считать себя в безопасности, и прислушивались к военным действиям наверху, к жужжанию самолетов, к трескотне зениток, и, наконец — мы ждали этого, — к грохоту, тяжелым ударам, брызгам осколков, к тому, что должно происходить при разрыве бомбы. Если бы мы были солдатами, то происшедшее вполне можно было бы считать нашим боевым крещением. Но мы были штатскими и не знали толком, как нам найти равновесие между присутствием духа и страхом, которые то и дело сменяли друг друга.
Я был на улице и видел, что такое война. Я видел пожары и разрушения. Я видел вокзал, охваченный огнем. Больше всего меня испугало то, что это зрелище меня не ужасало. Я уже давно думал о войне как о возможном кошмаре. С одной стороны, я в оцепенении, с другой — вижу, что ужас происходящего вполне соответствует ожиданиям. Я не ошеломлен и удивляюсь, что другие в отчаянии ломают руки. Как они себе это представляли? Парады, знамена, военные оркестры? Война в нашем веке — не что иное, как беда и смерть.
В нашей квартире появились люди, потерявшие кров, и в моей комнате тоже есть теперь бездомные. Я все еще не умею как следует говорить по-польски, и, если нужно объясниться, приходится говорить по-немецки. Воздушный налет вызвал не только пожары, он вызвал и ненависть к немцам. Я подвергаюсь оскорблениям, потому что меня принимают за немца. Люди разных национальностей напоминали натравленных друг на друга собак. Кто не думает о ненависти, кто хочет просто жить, все больше проникается чувством, что оказался в мире безумцев. Мне остается только молчать. Сейчас мои мысли лучше не высказывать ни по-немецки, ни по-польски. Госпоже Янине то и дело приходится объяснять, кто я такой: один из тех, кто бежал от Гитлера! Кругом все боятся шпионов, вот была бы скверная шутка, если бы меня в конце концов поставили к стенке как нацистского агента.
Читать дальше