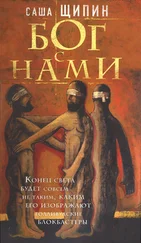Иван теперь много ходил, не всегда вспоминая, где его дом. Иногда Ивана забирали к себе женщины, и он жил с ними, заполняя собой пустоты, где должна быть любовь, а по ночам, когда они спали, примеривая на них бумажную Катю, которая никак не хотела с ними совпадать. У одной из них был спрятан за занавеской воспитанный женщиной внутри себя маленький человек, который однажды развязал пакет с Катей и рассыпал по полу. Иван испугался такой своей глубиной, куда не доставали слова, и потому кричал, как большая птица: «Ак! Ак!» — отчего страх передался еще помнившему этот язык ребенку, расплывшись на колготках. Иван на несколько часов заперся в комнате, снова и снова пересчитывая Катю, собрал ее в пакет и ушел, оставив женский дом, где пахло едой и жидкостями.
Обидев человека криком, Иван начал понимать, что ухудшается с каждым днем и в конце концов потеряет того себя, который был с Катей. Поэтому он сделал старого себя: в нем было меньше бумаги, чем в Кате, зато имелись в избытке какие-то надорванные резинки, шайбы, проволочки и даже одна облезлая елочная лапа с нитками от игрушек. Себя он сложил в черный мусорный пакет без ручек и тоже завязал его горловину на два больших узла.
Иван стал избегать городов, в которых было много звука и жалости, потому что города придумали женщины, и теперь часто ходил в лесу, где звук был красивый и осторожный, словно внутренний звук тела, а жалости не было вовсе. Однажды он встретил в лесу мужчину и женщину, которые рассказали, что бог решил сделать из них новое человечество, а старое завтра уничтожить, поэтому они идут на поляну, где ждет присланная за ними ракета. Иван убил их, чтобы богу было меньше работы, и пошел на поляну, посреди которой остывал корабль, похожий на длинное железное платье. Он положил внутрь оба пакета, захлопнул дверь и отошел в сторону, под деревья, а когда ракета улетела к богу, отправился в город, потому что до завтра оставалось немного времени, и можно было потерпеть и этот город, и этот звук, и даже эту жалость.
Узнавали друг друга в любой толпе — с полувзгляда, полужеста. Так русский на чужбине угадывает русского, так, говорят, распознают друг друга сотрудники спецслужб. Впрочем, любой русский за границей и есть разведчик, тонконосый Штирлиц, простоватый Иоганн Вайс, мечтающий не выделяться, неумело растягивающий губы в уставной, чужого монастыря, улыбке, но лелеющий внутри свою инаковость, которая все равно проступает наружу. Может, всему виной как раз невозможность расслабиться, вечная боязнь, что раскроют, снимут отпечатки с чемодана. Ходим, проглотив общий на всех аршин, чтобы нечем было измерить, посчитать, присвоить.
Удальцов за границей не был, в шпионы его не брали, поэтому он мог объяснить только про себя и своих товарищей по несчастью. А с ними все просто — не жильцы. Вот нормальный вроде бы человек — ходит, дышит, ставит лайки, — а жизнь-то у него давно кончилась. Теперь так только, видимость одна. Где-то они, конечно, работают, с кем-то общаются, что-то едят, у некоторых даже семья есть, но это посмертное, фантомное. Встретился им на пути Капитан — и все, как отрезало.
Сюда приходили многие: на этой детской площадке Капитан часто искал свои жертвы. Рассядутся по разным скамейкам и чего-то ждут. Друг на друга даже не смотрят — чего, действительно, на мертвецов глядеть? Да и на площадку тоже внимания не обращают — плохая стала площадка, новая. Под ногами специальное покрытие, упругое и шершавое, как спина рептилии, а на нем что-то дорогое и красивое, из синих досок и белых канатов. Не детская площадка, а загородный дом в стиле прованс. Удальцов такого не одобрял: играть нужно там, где ржавчина, скрип и тоска. Еще желательно, чтобы осень, дождь, и за металлические поручни карусели холодно держаться руками в цыпках. Все звенит, слишком туго натянутое, или, наоборот, провисает, ослабев, проржавев в труху. В общем, сейчас лопнет и рассыпется, открыв совсем другой мир, большой и прозрачный. А чему лопаться в провансальском пастельном уюте? Нечему. Здесь только белокурым мальчикам в матросках играть. Они, конечно, тоже не совсем пропащие: есть шанс, что впереди их все-таки ждет тоска скрипящих ржавых барж под ледяным дождем. Однако, как показывает история, оттуда обычно сбегают обратно в бело-синий рай, в ватное Батово и детское Рождествено, а другие миры по-прежнему достаются тем, кто под дождем, с цыпками и соплями.
С дождем, впрочем, тоже проблемы: на небе ни облачка, солнце шпарит на максимуме. Все вокруг плавится, превращается в пар и запах. Цветы, свежескошенная трава, краска. Удальцов пощупал скамейку, поискал мягкое и липкое, даже понюхал пальцы, но нет, обошлось. Откуда-то еще пахнет. Или не успело высохнуть в щелях и пазухах: красили, похоже, совсем недавно, и прохожие, прежде чем сесть, сначала осторожно трогали слишком ярко блестевшие скамейки, словно здороваясь или спрашивая разрешения. Многие даже сидя продолжали поглаживать деревянные планки, обнюхивая затем, как и Удальцов, руки. Выглядело это непристойно, особенно рядом с детской площадкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Щипин Идиоты [сборник] обложка книги](/books/429316/aleksandr-chipin-idioty-sbornik-cover.webp)
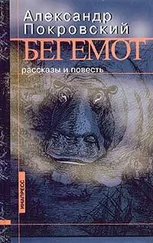
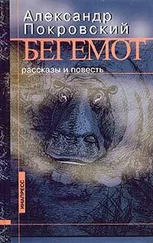
![Александр Варго - Донор [сборник]](/books/26963/aleksandr-vargo-donor-sbornik-thumb.webp)
![Александр Варго - Прах [сборник]](/books/27157/aleksandr-vargo-prah-sbornik-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Попаданцы [Сборник рассказов; СИ]](/books/27656/aleksandr-karnishin-popadancy-sbornik-rasskazov-s-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Миниатюры [Сборник; СИ]](/books/27661/aleksandr-karnishin-miniatyury-sbornik-si-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Чернуха [Сборник рассказов; СИ]](/books/27683/aleksandr-karnishin-chernuha-sbornik-rasskazov-si-thumb.webp)