— Парень высоченный, красные гусарские штаны на ляжках чуть не лопаются. Красивый ментик с газырями переброшен через плечо. Все девушки на него оглядывались. Увидал он меня да и говорит, гордо так: «Красивую тебя, девица, мать вырастила!» Как сегодня то было… У меня дух занялся и в глазах потемнело — взгляд-то у него, как молния в ясном небе! Ах, задира был… Куда и разум-то мой подевался! Всего год или два, как я со школьной скамьи соскочила. Ну что ж, в мои времена совсем сопливых девчонок замуж отдавали. Шестнадцать мне было, как я с твоим отцом жизнь свою завязала. Тогда он из костела прямиком к нам заявился и бряк отцу: «Отец, я на Маргитке женюсь». — «Хо-хо, тпру, малый, полегче! — ответил отец. — И какой я тебе отец?» А я все слышу, под окном стою. «Не отдам я тебе Маргитку». — «Отдадите», — уперся твой отец. И отдали. — Так кончала мать давнюю свою историю. — Суждено мне было пойти за него. Такой уж человек был: что задумает, от того не откажется. Вспыльчивый, горячий, то как нож вострый, то — хлеб: режь его, как тебе по нраву. Нет, неплохой был человек, не скажу, — вспоминала мать. — Сердце-то доброе… Товарищи да кони — вот и вся его радость. Он конями торговал, о хозяйстве не шибко заботился. «Мокрой курицей» называл меня, бывало, когда я ругала его, что плохой он хозяин, все с товарищами по ярмаркам время убивает. А когда, бывало, помиримся — все «Маргитка» да «Маргитка», только так и звал. Немного мне было радости за твоим отцом. Когда венчалась — глупая была, а в двадцать один год уж овдовела… В четырнадцатом году взяли его на войну. Что он оставил мне? Долги по хозяйству да двоих детей. За стариками ходила до смерти их, сестру твою, Йозефинку мою дорогую, схоронила, тебя учиться отдала — так и ушла моя молодость, как вода в землю.
Неладно жили отец с матерью, и все же Томаш был на стороне покойного отца и краснел за доброго дядю, заслужившего от него сыновнюю любовь. Нелегко было и дяде высказать такую просьбу. Неужели Томашу уговаривать родную мать, чтоб жила с дядей?
Мать кончила доить, передала подойник сыну. Видно, подметила что-то, спросила:
— Ты чего, Томаш?
Тогда только он спохватился, вспомнил, что дядя ждет. Мать обобрала с подола стебельки сена, погладила Полюшу по ноздрям. Томаш сказал:
— Да ничего. Дядя пришли.
Зажгли керосиновую лампу. Дядя ушел, не дождавшись их. Да он и не сумел бы говорить об этом непростом деле при свете лампы. Мать с сыном сели ужинать.
— Мама, когда я уеду — одни вы останетесь, — сказал Томаш.
— Ну и что ж, что одна? Как всегда, — удивилась мать, но удивление ее было чуть-чуть наигранным.
— Может, поедете с нами в город? — спросил он еще для очистки совести.
— Да нет, — задумчиво сказала она.
Томаш слишком легко примирился с этим.
2
Гимназия, маленькая фабрика ученых людей, давно работала — пятую неделю после каникул. Работала, жужжала на всех этажах, за всеми дверями и окнами единой патриотической молитвой, единым гомоном. Директор Бело Коваль, как говорится, бдительно следил, чтобы ничто не нарушало плавный ход обучения, и часто напоминал учителям об их обязанностях. Томаш Менкина испытал это на себе в первый же день. Он приехал утренним поездом, каким ездили гимназисты из Кисуц. Чемодан оставил на вокзале. Думал — представится директору, подыщет меблированную комнату и только после этого, на следующий день «начнет рубиться» по солдатскому выражению. Но человек предполагает, а вышло-то совсем не так. В первый же день обучающая фабричка втянула его в свои шестерни и порядком перетряхнула. Не успел он толком представиться коллегам, собравшимся в учительской, и поздороваться с Дариной Интрибусовой, с которой познакомился еще летом у директора, когда являлся по назначению, — как уже набросились на него учителя, заменявшие его, пока он воевал, с радостью взвалили на него всю работу.
— Берите классный журнал, пан коллега. А вот и тетради. Сейчас у вас урок родной речи во втором классе… — наперебой говорили ему.
Он совсем потерял голову и все перепутал — от кого что следовало принять, кого слушать! Тогда ему все хорошенько растолковали, положили перед ним расписание. В списке преподавателей показали его фамилию и его цвет. Зеленые полоски в окошечках расписания обозначали, в каком классе и когда у него урок. Томаш Менкина блуждал еще где-то в Польше, за Дунайцем, а в гимназии за ним уже закрепили уроки, классы, обязанности — и там хоть возвращайся учитель с войны, хоть нет, сопротивляйся Польша или капитулируй сразу. Менкина был принят в учительское сословие, стало быть, и крутись — пусть пока что на бумаге — одним из колесиков в плавном беге обучения…
Читать дальше
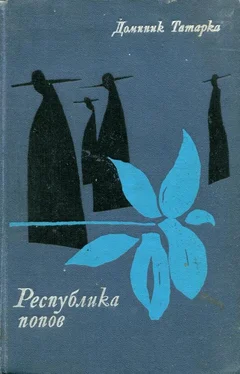





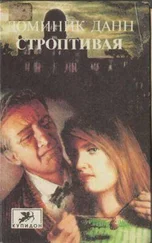


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


