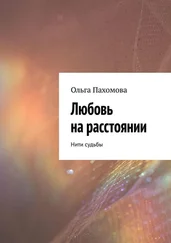— Когда придет время искать невесту, я приеду к тебе, — сказал Маркус, коснувшись моего лица. Он принялся вытирать мои слезы, и его прикосновения заставили меня вздрогнуть.
— Обманщик, — прошептала я.
— Красавица.
Его пальцы скользнули вверх по щекам, он запустил их в мои волосы, и его ладонь обхватила затылок. Наши лица медленно приблизились друг к другу, словно мы боялись развязки, которая уже столько времени висела в воздухе.
В этот момент неожиданный скрежет ключа в замке заставил нас отпрянуть друг от друга. В зал ворвалась Джамиля и, тяжело дыша, выпалила срочное сообщение:
— Сеньора Фокс говорит, сеньорита Сира скорее идти на Пальмерас.
Пришла пора расставаться, и отсрочить прощание было уже невозможно. Маркус взял свою шляпу, и я не смогла удержаться, чтобы вновь не обнять его. Мы не проронили больше ни слова, нам нечего было сказать. Через несколько мгновений от присутствия Маркуса остался лишь легкий поцелуй на моих волосах и мучительный звук закрывшейся за его спиной двери.
33
После отъезда Маркуса и появления мамы у меня началась новая жизнь. Мама приехала в пасмурный день — худая, изможденная и измученная, с одной лишь старой сумкой и фальшивым паспортом, приколотым к лямке бюстгальтера английской булавкой, а из платьев — только то, что было на ней. Она постарела, казалось, лет на двадцать: из-за худобы глаза глубоко провалились, ключицы торчали, и вместо первых проблесков седины в волосах появились белые пряди. Мама вошла в мой дом как ребенок, поднятый из постели посреди ночи, — растерянная, смущенная, безучастная. Словно все еще не понимала, что это дом ее дочери и теперь ей тоже предстояло здесь жить.
Когда я представляла себе нашу долгожданную встречу, мне рисовались сцены безудержной радости. Однако действительность оказалась совсем иной. Если описать все одним словом, это была грусть. Мама почти постоянно молчала и не проявляла никаких признаков восторга. Она лишь крепко обняла меня и долго не отпускала мою руку, словно боясь, что я куда-нибудь ускользну. Ни смеха, ни слез и какие-то скупые слова — вот и все, что было в момент нашей встречи. Она едва попробовала кушанья, приготовленные Канделарией, Джамилей и мной: курицу, тортилью, помидоры в маринаде, анчоусы, мавританский хлеб — все это, как нам было известно, давно не ели в Мадриде. Мама ни слова не сказала о моем ателье и о комнате, которую я для нее приготовила, — с большой дубовой кроватью, накрытой сшитым мной покрывалом из кретона. Она не спросила про Рамиро и не полюбопытствовала, что заставило меня поселиться в Тетуане. И разумеется, я не услышала от нее ни слова о тяжелом пути в Африку, и она ни разу не упомянула обо всех тех ужасах, которые ей пришлось пережить.
Мама никак не могла освоиться на новом месте. Решительная и всегда уверенная в себе, Долорес превратилась в робкую и скованную женщину, в которой я едва узнавала свою мать. Я посвящала ей все время, почти оставив работу: никаких важных приемов в ближайшие дни не ожидалось, и мои клиентки могли подождать. Каждое утро я приносила ей завтрак в постель: сдобные булочки, чурро, тосты с оливковым маслом и сахаром — все, что могло помочь ей немного набрать вес. Я помогала ей принимать ванну, подстригла волосы и сшила новую одежду. Мне с трудом удавалось вытащить маму из дома, но со временем утренние прогулки превратились для нас в обязательный ритуал. Держась под руку, мы гуляли по улице Генералиссимуса и доходили до площади перед церковью; иногда я сопровождала ее на мессу. Я показывала маме город, заставляла ее помогать мне в выборе тканей, слушать песни по радио и решать, что приготовить на обед. И постепенно, шаг за шагом, она стала оживать.
Я никогда не спрашивала маму о ее дороге в Марокко, длившейся, казалось, целую вечность: ждала, что она сама когда-нибудь обо всем мне расскажет, — но она предпочитала не вспоминать об этом, и я не настаивала. Я интуитивно чувствовала, что такое поведение — всего лишь бессознательная попытка справиться с неуверенностью, оставшейся в ее душе после всего пережитого. Поэтому просто ждала, пока мама придет в себя, и находилась все время рядом, готовая поддержать ее и утереть слезы, которые она, однако, так ни разу и не пролила.
Я поняла, что ее состояние улучшилось, когда мама стала самостоятельно принимать некоторые решения: «Сегодня я, пожалуй, схожу на мессу в десять, и не пойти ли нам с Джамилей на рынок за продуктами?» Постепенно она перестала пугаться неожиданных звуков и шума пролетавшего над городом самолета; посещение церкви и рынка стало частью ее ежедневной жизни, которая вслед за этим начала наполняться и другими делами. Важнее всего было то, что мама наконец вернулась к работе. С момента приезда я изо всех сил пыталась увлечь ее шитьем, но она не проявляла ни малейшего интереса, словно это не составляло основу ее существования на протяжении тридцати с лишним лет. Я показывала ей модные журналы, которые в то время уже сама покупала в Танжере, рассказывала о своих клиентках и их капризах и пыталась воодушевить воспоминаниями о совместной работе в ателье доньи Мануэлы. Все было бесполезно. Я ничего не добилась, словно говорила на непонятном ей языке. Однако в одно прекрасное утро мама сама заглянула ко мне в мастерскую и спросила:
Читать дальше